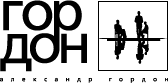gordon0030@yandex.ru
Юродивые
 26.02.2003
26.02.2003  50:21
50:21
 Стенограмма эфира
Стенограмма эфираЧто такое юродство
Участники:
Живов Виктор Маркович — доктор филологических наук
Иванов Сергей Аркадьевич — доктор исторических наук
Материалы к программе:
Юродивый (греч. σαλός), разряд святых подвижников, избравших особый подвиг — юродство, т. е. облик безумия, принимаемый ради «поругания миру», радикального отвержения ценностей мирской жизни и служения Христу через свидетельствование о внеположности Христова пути мирской мудрости и мирскому величию. Юродство как путь святости реализует то противоположение мудрости века сего и веры во Христа, которое утверждает апостол Павел: «Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их», ср. еще: «Мы безумны Христа ради».
Юродство как особый род аскезы возникает в среде восточного монашества около V в. Палладий в Лавсаике рассказывает о монахине в одном из египетских монастырей, которая делала вид, что она безумна и одержима бесами, жила обособленно, выполняла всю грязную работу, и монахини называли ее по греч. Σαλή. Позднее обнаруживается ее святость, и Палладий указывает, что она воплотила в жизнь те слова из Послания к Коринфянам, которые цитировались выше. Евагрий
Юродство как тип поведения использует, видимо, ту модель, которая была задана бесноватыми, жившими у мощей святых. В
Подвиг юродства не получает значительного распространения в Византии или, во всяком случае, лишь в редких случаях удостаивается признание в форме санкционированного церковью почитания. Ряд святых прибегают к юродству лишь в течение определенного времени, посвящая, однако, большую часть своей жизни аскезе другого типа. Период юродства отмечается, например, в житиях преп. Василия Нового (X в.), преп. Симеона Студита, учителя Симеона Нового Богослова, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (ум. 1175 г.) и др. В византийских источниках, однако, содержатся многочисленные рассказы о «божиих людях», принимавших облик безумцев, ходивших нагими, носивших вериги и пользовавшихся исключительным почитанием византийцев. Иоанн Цеце (XII в.) говорит, например, в своих письмах о знатных константинопольских дамах, которые в своих домашних церквях вешают не иконы, а вериги юродивых, заполнивших столицу и почитаемых более, чем апостолы и мученики; Иоанн Цеце пишет, однако, о них с осуждением, равно как и некоторые другие поздневизантийские авторы. Такого рода осуждение было, видимо, характерно для церковных властей этой эпохи и связано со стремлением утвердить общежительное монашество, живущее по уставу и не практикующее нерегламентированные формы аскезы. При этих условиях, естественно, почитание юродивых как святых официальной санкции не получало.
Если в Византии почитание юродивых носит ограниченный характер, то в России оно приобретает весьма широкое распространение. Первым русским юродивым следует считать Исаакия Печерского (ум. 1090 г.), о котором рассказывается в
Из рецензии В. М. Живова на книгу С. А. Иванова «Византийское юродство»:
Тема вряд ли нуждается в особом обосновании. Дело не только в том, что византийское юродство — это недостаточно изученный феномен, требующий обобщения всего существующего агиографического материала, но и в том, что юродство может рассматриваться как явление, в котором фокусируется и специфика византийской духовности, и отличительные черты
Автор определяет само понятие юродства как притворного безумия с религиозными целями, непременно содержащего элементы «провокации» («сознательное выстраивание ситуации, вынуждающей
Иудейская часть этой предыстории означена безумием и провокацией пророков, эллинистическая — попранием социальных запретов у киников. Вместе с тем автор справедливо подчеркивает, что ни одна из этих традиций не совпадает с юродской. Таким образом, юродство было синтезом и одновременно глубокой трансформацией элементов двух ранее противопоставленных традиций — иудейской и греческой.
К этому можно было бы добавить, и еще один источник юродской парадигмы: бесноватых, подвергнутых экзорцизму. Специально говорить о том, что юродивые ассоциируются с бесноватыми, конечно, нет необходимости. В принципе, видимо, большинство психических болезней воспринимались вплоть до нового времени как действие бесов (насколько универсальным было такое восприятие, распространялось ли оно, например, на тихий дебилизм, требует особого исследования), так что, симулируя сумасшествие, юродивые тем самым прикидывались бесноватыми. В этом качестве юродивых и воспринимали, что неоднократно отмечается в житиях. Несколько более существен, хотя и не менее очевиден тот факт, что «предтечей» и двойником провидческого дара юродивого являются провидческие способности бесноватых, через которых говорит бес (демон). И этот момент четко зафиксирован в житиях. Например, в Житии Андрея Юродивого корчмарь объясняет своим посетителям, пораженным провидением Андрея: «Не самъ бо wнъ гл=ть, нъ дhмонъ, ~же в немъ живеть. Да вы почто с# томu дивите? И бh[съ] цh не вhсть, кто бл#деть, кто ли прелюбы творить, кто ли крадеть, кто ли есть скuпъ или кто колико цать вз#лъ есть из домu и колико есть оудержалъ?» (конец XV в.). Бес (демон), прорицающий через человека, в которого он вселился, известен и в евангельской, и в античной традициях, так что и в этом отношении юродство оказывается их синтезом.
Более важен другой момент. Исцелившиеся бесноватые могли оставаться при церкви (и, видимо, подвергаться экзорцизму вновь при рецидивах безумия) и образовать при ней особую группу зависимых людей (ср. прощенников, т. е. получивших чудесное исцеление в качестве людей, подпадающих под церковную юрисдикцию, в Уставе Св. Владимира и других восточнославянских церковных уставах), определенным образом участвовавших в церковной деятельности. П. Браун отмечает, что в поздней античности исцеленные бесноватые живут при гробницах святых и получают от церкви благословение и пищу. Таким образом, в поведении этих людей присутствует элемент провокации, которая может преследовать религиозные цели и быть в той или иной мере санкционирована церковью. Юродивые, возможно, опираются и на эту традицию. Данная линия преемственности объясняет, вероятно, существование общин юродивых, о которых упоминается в истории Марка Лошадника и в «Церковной истории» Евагрия.
Вторая глава названа «Питательная среда юродства». В ней рассматривается тот ментальный фон византийского христианства, на котором складывается феномен юродства. Автор прослеживает восточнохристианскую рецепцию известных слов из Первого послания ап. Павла к Коринфянам, в которых утверждается, что «мудрость мира сего есть безумие пред Богом», в особенности рецепцию египетскую и
Третья глава посвящена раннему юродству. Рассматриваются первые примеры юродской святости, зафиксированные в памятниках конца IV — начала VI вв. Автор описывает, как юродство движется от общежительного монастыря в город и как при этом нарастают элементы провокации и агрессии, присущие формирующейся культурной парадигме. Обсуждается проблема трансвестии как одного из вариантов юродства и явление религиозного странничества, с которым юродство тесно связано (данный феномен в целом играет в христианской культуре исключительно важную роль и заслуживает, конечно, отдельного исследования).
Некоторые возражения вызывает трактовка жития Алексия Человека Божия. Автор задается вопросом, зачем Алексий, вернувшись неузнанным в отчий дом, оставляет родителям описание своей жизни и страданий, обрекая на «безутешное горе ни в чем не повинных родственников». Автор отвергает интерпретацию С. С. Аверинцева, согласно которой эта жестокость «отвечала глубоким душевным потребностям» средневекового общества, резонно замечая, что в таком случае следовало бы раскрыть эту странную потребность. Сам же С. А. Иванов видит в этом «юродскую агрессию». Само по себе такое объяснение выглядит более убедительно, однако встает вопрос, что именно объясняет автор: идет ли речь о семиотике поведения святого или о нарративной стратегии перерабатывавшего его житие писателя. Как раз в данном случае мы вполне достоверно знаем, что никакого возвращения Алексия в отчий дом на самом деле не было: если такой святой и существовал, то умер он в Эдессе, как и рассказано в первоначальном житии, а эпизод с возвращением появляется при переработке этого исходного текста.
В этом случае закономерен вопрос не о мотивах святого, а о мотивах повествователя. И ответ в данной перспективе может быть формальным: посмертные записки Алексия нужны не для растравы его близких, а для сюжетной мотивации нарратива (из этих записок повествователь и получает сведения о жизни святого). Такой прием позволяет передать внутреннюю точку зрения протагониста, что существенно не только для данного конкретного жития, но и для различных житий юродивых (в силу чего в этих житиях часто фигурирует конфидент юродивого, ср., например, Епифания в Житии Андрея Юродивого, также вполне вымышленном). Возникает и более общая проблема методологического характера, которую автору стоило бы разъяснить: что в анализируемом материале относится к моделям поведения, а что к моделям нарратива. Вряд ли здесь возможно однозначное противопоставление, поскольку повествования, даже и целиком вымышленные, реализуют социально значимые культурные парадигмы, и вместе с тем дают эти парадигмы в отрефлексированном виде и тем самым конституируют их как автономные явления (особенно это заметно в позднем юродстве, явно ориентирующемся на образцовые юродские жития). Как бы то ни было, вовсе обойтись без постановки данного вопроса не представляется мне правомерным.
Четвертая глава «Расцвет юродства» посвящена периоду конца VI — X вв., когда обсуждаемая культурная парадигма находит свое наиболее полное воплощение. Этот период распадается на два:
Не вполне убедительными представляются мне в данной главе рассуждения С. А. Иванова о юродстве и свободе выбора. Автор справедливо замечает, что «разнузданность юродивого никоим образом не мыслится как форма самовыражения». «Полная зависимость» юродивого от Божией воли свидетельствует, на взгляд исследователя, о «фатализме» и «исконно восточном отношении к судьбе». Боюсь, однако, что к проблеме свободы выбора юродство вообще никакого отношения не имеет. Так проблема ставилась как раз на Западе, и там в полемике бл. Августина с пелагианством была решена именно в пользу предестинации, так что «восточное отношение к судьбе» лучше уж было бы приписать как раз Западу, а не Византии. В византийском же богословии этот вопрос решался изящнее. В юродских же житиях или в легенде об
Интересные соображения высказывает автор в пятой главе «Мистик и юродство». Анализируя сочинения Симеона Нового Богослова, С. А. Иванов указывает на его амбивалентное отношение к юродству и приводит пассажи, близкие по характеру «юродскому» дискурсу. На фоне общего мистического иррационализма в них выраженно присутствует установка на неинституализованные отношения подвижника с Богом, апология бесстрастия, провоцируемого соблазном, и скепсис в отношении внешней мудрости. С точки зрения институализованного православия и юродство, и персоналистическая мистика Симеона (как позднее и мистика св. Григория Паламы) балансируют на грани ереси. С. А. Иванов справедливо замечает, что, в отличие от еретиков, и юродивые, и мистики не противопоставляли свой путь как единственно правильный общецерковной дисциплине. В регламентированной системе византийской религии они создавали, по словам автора, «то пространство маневра, без которого не может выстоять ни одна система».
Шестая глава посвящена «закату юродства». Согласно автору, этот закат начинается в
Три последние главы выводят исследование за пределы византийского мира. Они посвящены, соответственно, юродству у восточных славян и феноменам, близким юродству на Востоке (в исламском мире и Индии) и на Западе (в Западной Европе). Конспективно излагая историю русского юродства, автор отмечает его отличия от византийского, в частности, его социальные функции — обличение гордыни и неправедности власти. Я бы связал эти различия с несходством социокультурного контекста. И в Византии, и на Руси юродство было противовесом регламентации и рационализации. В Византии рационализация шла прежде всего от «внешней мудрости», унаследованной империей от античности; против этой традиции par excellence и было направлено юродство. На Руси, однако, эта традиция отсутствовала, и заданная Византией парадигма трансформировалась из «интеллектуальной» в «социальную». До какой степени при этом юродство вытекало из архетипеических черт восточнославянской народной культуры, остается неясным и, видимо, вообще не может рассматриваться как научная проблема. С. А. Иванов прав, утверждая, что сближение юродской парадигмы с фольклорным типом
Укажу на одну неудачную формулировку. С. А. Иванов пишет о Житии Андрея Юродивого: «Самый ранний русский отрывок сохранился в Изборнике Святослава
Последняя глава посвящена сопоставлению Византии с латинским миром. Автор тщательно описывает элементы юродского поведения, появляющиеся в житиях западных святых, анализирует западную рецепцию византийского феномена юродства. Вывод, к которому приводит этот анализ, состоит в том, что юродство как таковое на Западе отсутствует. Отдельные случаи, напоминающие юродство (св. Джованни Коломбини, легенда о Роберте Диаволе, отдельные эпизоды из жизни св. Франциска Ассизского), мотивированы или концептуализированы другим образом (как эксцесс покаяния, как демонстративное нарушение норм, а не как тайный подвиг и т. д.), так что юродская парадигма как целостность остается для латинского мира чуждой. С. А. Иванов обоснованно утверждает, что это обусловлено различиями в понимании святости, смирения, покаяния, социальных параметров аскезы, однако не вполне раскрывает эти различия.
Мне бы казалось, что несходства в приятии и восприятии юродства можно прямо соотнести с разными акцентами в восточной и западной христологии. Святой всегда подражает Христу, поэтому преимущественные направления святости всегда соотнесены с теми аспектами в понимании искупительной жертвы Спасителя, которые особо выделяются данной культурой. Для Византии с ее подчеркнутым восприятием благодати космического домостроительства (того, что фон Бальтазар называл kosmische Liturgie) акцент ставится на кенозисе Сына Божиего, для Запада — на страстях Христовых. Поэтому и крайности аскезы в Византии воплощались в юродстве как кенозисе по преимуществу, а у латинян — в стигматизации, тогда как юродство появлялось лишь как периферийный эпизод на этом пути (что мы и видим наиболее наглядным образом в житии св. Франциска).
Итоги исследования подведены в Заключении. Автор особо останавливается на этическом аспекте юродства. Отвергая обычные апологии юродства, выделяющие лишь отдельные его черты и рассматривающие его как крайнюю манифестацию общеизвестных христианских добродетелей, С. А. Иванов утверждает, что суть юродства «как раз и состоит в грехе», релятивирующем всякое абстрагированное автономное добро, подзабывшее о непознаваемости воли Божией. Для традиционной экзегезы эту роль юродства можно определить в терминах оппозиции закона и благодати: силящемуся распространить свое господство закону юродство всякий раз противопоставляет благодать, указывающую закону на его ограниченное и подчиненное место.
В этой перспективе стоит взглянуть и на попытку определить значение юродства в историческом пути православия, предпринятую на последних страницах книги. Обобщая собранные данные, С. А. Иванов приходит к выводу, что «юродивый и мученик за веру по отношению друг к другу находятся в позиции дополнительного распределения <...> Когда оно [христианство] становится государственной идеологией, когда пострадать за веру нельзя и религия рутинизируется, тогда трансцедентный смысл христианства начинает пересыхать». Напомнить о нем, не дав замереть переживанию эсхатологического разрыва бытия, и призвано юродство.
Исходя из подобных соображений, можно было бы распространить ту динамическую картину юродства, которую предлагает С. А. Иванов, связав ее с борьбой или взаимодополнительностью регулятивного и эсхатологического начал в религиозной жизни общества. Как полагает ряд исследователей, монашество развивается как реакция на институализацию христианства в империи; монашество как бы остается церковью страдающей и гонимой в пределах церкви торжествующей, остается пространством индивидуального подвига и эсхатологического чаяния внутри религии, рационализованной имперским порядком. Однако к началу V в. и монашество испытывает давление нормативной регуляции: киновии и монастырский устав теснят непредсказуемый подвиг анахорета. И в этих условиях дерегулятивное начало переходит к таким крайним формам аскезы, как столпничество и юродство. Эта динамическая схема просматривается и в том ренессансе юродства, который переживает Византия в
При таком подходе кажется несколько поспешным вывод С. А. Иванова, согласно которому «юродство очень точно отражает промежуточную позицию православия между Востоком и Западом. Если в Европе тварный мир казался слишком почтенным, чтобы над ним издеваться, то для спиритуалистических религий Азии он представляется чересчур ничтожным даже для этого. Именно православие, одновременно и жившее в мире, и тяготившееся им, могло породить такой странный феномен». Я не стал бы ни преувеличивать спиритуализм православия, ни подчеркивать приверженность латинства тварному миру, и само выстраивание одномерной шкалы от индийского дервиша до Великого Инквизитора не кажется мне оправданным. Регулятивное и дерегулятивное начала присутствуют в обеих ветвях христианства, и степень их выраженности трудно оценить как в одном, так и в другом случае. Ту дерегулятивную роль, которую в Византии играет юродство, в латинском мире выполняют иные культурные феномены. В этом плане юродство можно сопоставить с западной мистикой страстей Христовых или визионерством: они так же напоминают верующим о бренности всякого порядка, относительности закона и абсолютности благодати. Св. Тереза или Хуан де ла Крус вряд ли более пристрастны к тварному миру, чем Симеон Студит или его ученик Симеон Новый Богослов, их несходство лежит в другом плане, указывая не на одномерную оппозицию, а на то, как разнообразие типов святости и духовных интуиций входит в многоголосие христианских культур, ни одна из которых по отдельности не содержит в себе всю полноту религиозного опыта.
В области очень общих культурологических построений никто не ожидает бесспорных истин и однозначных выводов; дискуссии по подобным проблемам принципиально незавершимы, поскольку они всегда, в конце концов, остаются рационализацией тех перигринаций человеческого духа в происках трансцедентного эго, на которые он обречен, пока не закончится человеческая история. Дискуссии неизбежны, но качество их прямо зависит от свежести того горючего материала, который сгорает в этом споре. Книга С. А. Иванова этот свежий материал безусловно дает. Сделанные замечания имеют, очевидным образом, дискуссионный характер. Она вносит значительный вклад в историю византийской культуры, вводит в научный оборот много новых данных и в целом ряде отношений является пионерской. Если бы подобные же описания имелись для анахоретства, молчальничества, столпничества, странничества и т. д., византийская история наполнилась бы множеством фигур, привычно игнорируемых историками, и это позволило бы
Библиография
Алексий (Кузнецов). Юродство и столпничество: Религиозно — психологическое, моральное и социальное исследование. М., 1913; репринт 2000.
Будовниц И. У. Юродивые Древней Руси//Вопросы истории религии и атеизма. 1964. Т. 12.
Есаулов Е. А. Юродство и шутовство в русской литературе//Литературное обозрение. 1998. № 3.
Иванов В. В. Безобразие красоты: Достоевский и русское юродство. Петрозаводск, 1993.
Иванов С. И. Византийское юродство. М., 1994.
Ковалевский И. Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной и русской церкви. М., 1902; репринт 1991.
Кузнецов И. И. Святые блаженные Василий и Иоанн, Христа ради московские чудотворцы. М., 1910.
Панченко А. М. Древнерусское юродство/Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, Н. В. Понырко. Смех в Древней Руси. Л., 1984.
Aggelidi Ch. He parousia ton salon ste Byzantine koinonia/Oi perithoriakoi sto Byzantio. Athenais, 1993.
Antoci P. M. The hermeneutics of scandal and marginality: Holy folly in the hagiographies of Pelagia Ivanovna Serebrenikova and Feofil Andreevich Gorenkovsky/The Catholic University of America Diss. Washington, 1994.
Challis N., Dewey H. Divine Folly in Old Kievan Literature//Slavic and East European Journal. 1978. V.22. № 3.
Dagron G. L’homme sans honneur ou le saint scandaleux//Annales. 1990. № 4.
Deroche V. Etude sue Vie de Symeon d’Emese par Leontios de Neapolis. Paris, 1995.
Gorainoff I. Les fols en Christ dans la tradition orthodoxe. Desclee de Brouwer, 1983.
Тема № 221
Эфир 26.02.2003
Хронометраж 50:21