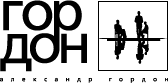gordon0030@yandex.ru
Отражение Апокалипсиса
 30.04.2003
30.04.2003  51:11
51:11
 Стенограмма эфира
Стенограмма эфираЧто ожидает нас после завершения земной жизни человека, после гибели общества и человечества? Сколько концов уже было в истории? О начале и конце в мировых религиях, отражении Апокалипсиса в литературе предреволюционного и послереволюционного времени, личном художественном и социальном Апокалипсисе в культуре и жизни человека и преодолении апокалиптических ожиданий — филолог Леонид Кацис.
Участник:
Леонид Фридович Кацис — доктор филологических наук, доцент РГГУ
Обзор темы
Реальные двадцатые и тридцатые годы XX века — эпоха, к которой с полным правом можно отнести слова:
Повесть наших отцов,Сегодня мы приближаемся к девяносто- и столетним юбилеям поэтов серебряного века. И, хотя по слову Пастернака,
Точно повесть из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится, Точно во сне.
За быстрою сменою лет, Стерся след... —Конец
нам хочется попытаться проникнуть в «век Стюартов».
Яркую картину зарождения и развития апокалиптических предчувствий в начале XX века дает подборка примеров из русских поэтов, предложенная В. Н. Топоровым в работе «Пространство и текст»: «Речь идет об операциях членения (анализ) и соединения (синтез), которые выступают не только как то, что обнаруживается в реконструкции, но и реально, вполне сознательно используется в основном годовом ритуале архаичных традиций, на стыке Старого и Нового года; распадение старого мира (прежнего
Эти апокалиптические предчувствия и наложились на ницшеанскую антихристианскую проповедь, например, хотя бы в «Антихристианине»: «В какой бы форме ни деградировала воля к власти, всякий раз совершается и физиологический регресс, decadence... Божество decadence’a, у которого кастрированы мужские доблести и влечения, — это божество непременно теперь станет богом физиологически деградировавших слабых людей.
Так понятому христианству Ницше противопоставлял дионисийские или, шире, эллинские культы. На русской почве это нашло наиболее яркое выражение у Вячеслава Иванова, чьи произведения (стихотворный сборник «Эрос», книга или серия статей «Религия страдающего бога» и т. п.) актуализировали проблематику, которой было суждено развернуться в особую целую парадигму русской культуры XX века. Противоположный полюс занимал В. В. Розанов, который считал, что христианство гибнет вследствие отказа от культа продолжения рода, столь свойственного иудаизму, в пользу воздержания и монашеской аскезы.
Cимволисты независимо от того, до какого возраста они доживали, оставались в предощущении Апокалипсиса. Поэтому Андрей Белый сразу же отказался от писания своей мистерии, оказавшись в пучине апокалиптических бурь. Акмеист Мандельштам (как, впрочем, и футуристы) жил во время Апокалипсиса и отражал его. Описание последовательного развития апокалиптики в русской литературе позволяет структурировать даже кажущиеся бессвязными цитаты.
Рассматривая генезис мандельштамовского «Неизвестного солдата», можно сказать, что Мандельштам распространил образ Андрея Белого из «Записок чудака» на всю предыдущую историю человеческих войн.
Глубокие связи творчества Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев (1880–1934), один из лидеров символизма) и Осипа Мандельштама не вызывают сомнения. Грандиозный цикл стихов, который Мандельштам написал под впечатлением кончины Андрея Белого, — лучшее тому подтверждение. Диалог Белого и Мандельштама — «перекличка на воздушных путях», длился на протяжении всего жизненного и творческого пути двух великих поэтов.
Роль Андрея Белого в поэтическом универсуме Мандельштама прослеживается от книги «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» через тексты, связанные с героем Белого — Чудаком, вплоть до поздних взаимоотношений двух поэтов: до «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» и «Стихов о неизвестном солдате». Творческий путь
«Стихи о неизвестном солдате» не просто главный текст «позднего Мандельштама». Это, пожалуй, самый твердый орешек для современной филологии, хотя количество работ здесь постоянно растет. Наиболее продуктивным представляется рассмотрение творчества Мандельштама интересующего периода как единый процесс последовательного поэтического развития, начатого художественными и философскими поисками следов древних культур Крыма, Кавказа и Средиземноморья — «колыбели праарийской», продолженного овидиевыми и вергилиевыми мотивами, реализованного в творчестве поэта дантовой традицией («Разговор о Данте», «Ариост» с его мотивами Тассо и Байрона) и завершенного в последовательном преодолении языческого
С языковой точки зрения «Стихи о неизвестном солдате» представляют собой причудливую смесь диалектизмов из словаря Даля, современного языка и антропософской образности и терминологии, восходящей к творчеству Андрея Белого.
Сюжет и жанр «Стихов о неизвестном солдате» — повествование о конце мира, отсылающее читателей, с одной стороны, к христианскому Апокалипсису, а с другой — к предсмертному обращению Моисея к Израилю на границе Земли Обетованной, куда пророку не суждено будет войти, — определяет грандиозное духовное напряжение произведения Мандельштама. В свою очередь, образность стихов, связанная с понятиями «Свет» и «Новая весть», от которой «будет миру светло», замкнутая на некое «Я», отсылает нас прямо к Евангелию от Иоанна. При этом его образность «накладывается» в стихах Мандельштама на библейскую образность, связанную с «хлебом» и «зерном». Обращает на себя внимание не просто упоминание Света в Евангелии от Иоанна, но сочетание его с идеями искупления и Страшного суда: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». «Ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что злы». «А поступающий по правде идет к свету дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны».
Эти мотивы развиваются и в гл. 6 Откровения: «Я есмь хлеб жизни: отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить
Итак, если учесть евангельский текст, то ключевые слова «Стихов о неизвестном солдате» (хлеб, пища, ядущий, свет) обретают одновременно как бы два смысла, помимо собственно поэтического: Ветхозаветный и Евангельский. Это вводит в стихи эсхатологическую перспективу. Одновременно сама идея «ядущий Меня жить будет Мною» приоткрывает природу странной, на первый взгляд, образности строк:
Я ль без выбора пью это варево,К этим строкам мы еще вернемся. Здесь отметим лишь, что
Свою голову ем под огнем.
Весть летит светопыльной обновою...представляют собой точные цитаты из того же Евангелия от Иоанна.
... я новое,
От меня будет миру светло...
Исследователь (и читатель) стоит перед выбором: либо ограничиться
Кстати, здесь и может помочь книга Андрея Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности». Обратимся сразу же к тем ее разделам, которые непосредственно связаны с образностью «Стихов о неизвестном солдате».
Андрей Белый, обобщая идеи Рудольфа Штейнера, замечает, что гетевская физика прямо обратна ньютоновской. Свет (по Гете) не ПРИХОДИТ в глаз, а ВЫходит из глаза человека. Это — «обратная» физика Гете. Естественно, что характеристики такого света окажутся в прямой зависимости от состояния человеческого организма, а не от бездушной призмы Ньютона. Вот как говорит об этом Белый: «В натуралистическом тоне обратный порядок рисует: органику; Гетево понимание органики градацией опрозрачено, „свет“ здесь есть Свет Христов; только он — прототип; „антропос“ — близлежащая модификация типа; „антропос“ — тип природы; через себя струит он импульсом Свет Христов. Антропософия теории импульса — ключ к органике Гете».
В этом контексте проясняются строки Мандельштама, связывающие «Я» поэта, «Свет»
Сквозь эфирИнтересно, что в гетевской теории света «опрозрачненный» свет имеет цвета спектра, которые означают различные религии. Указание на такой свет есть и в мандельштамовском стихотворении:десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью нулей.
Ясность ясеневая, зоркость явороваяи чуть далее:
Чуть-чуть красная мчится в свой дом...
Для того ль заготовлена тараПо гетевской градации «красный свет» — это свет Элогимов, т. е. свет Ветхого Завета. В «Записках чудака» Андрей Белый говорит об этом так: «И вспыхивает кровавая красная краска из купола: там в бурных высях из ураганов огней — Элогимы творят: свет и звук».
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом?
Далее исследователю необходимо понять, имеют ли отношение к образности Андрея Белого слова, окружающие слово «опрозраченный» из отрывка «Стихов о неизвестном солдате». Это слова и понятия «эфир,
Тогда придется обратиться к роману Андрея Белого «Записки чудака». Вот как изложил его Осип Мандельштам в уничтожающей рецензии 1922 года: «В книге можно выделить фабулу, разгребая кучу словесного мусора: русский турист, застигнутый войной в Швейцарии, строит Иоаннов храм теософской премудрости, швейцарцы, обратив внимание на подозрительного иностранца, высылают его, и, преследуемый шпиономанией, он вполне благополучно возвращается через Англию и Норвегию в Россию. Но фабула в этой книге просто заморыш, о ней и говорить не стоило бы; хотя жадно отдыхаешь на всякой конкретности, будь то описание бритого шпика, пароходного табльдота или просто человеческое слово, верно записанное. Книга хочет поведать о
Фабула изложена Мандельштамом вполне адекватно: «Книга хочет поведать о
Если прямо обратиться к тексту «Записок чудака», причем как раз к тексту второго тома, столь раздражавшего Мандельштама, в этом томе Белый использует
Эти мистеры только кажутся множеством, мистеров нет: есть один сплошной мистер, заполнивший промежутки междуатомных пустот ... — И его называют эфиром ... — Но физик. Планк, уничтожив эфир, доказал, что «сплошной мистер» — «ноль» ... Мы смотрели в окно: там валилК картинесеро-желтый «сплошной» и уже неотличимый мистер в сплошныхсеро-желтых сложенияхсеро-желтого камня; но развивалось это явление при помощи «морока мистеров»;
— сотен! —
— десятков тысяч! —
— десятков тысяч! —
Так мистеры, индивидуально разделенные, отведенные друг от друга во внешнем и внутреннем мире очерченным кругом изображали собою лишь
точку
иль
а-
том: —
— ноль!»
Почему Мандельштам вдруг ощутил себя «неизвестным солдатом» и почему это не имело никакого отношения к «ханжеству буржуазии», можно понять, если обратиться к следующему тексту «Записок чудака»:
Если Века, стоящего в мировой пустоте, внимающего страшным проломам разъятого темени: —В этих строках, одновременно отсылающих нас и к циклу «Памяти Андрея Белого», мы видим точное совпадение со словами Осипа Мандельштама.
— пушкой,
стреляющей в небо, стоял он; Он и Я;
Он выстрелил — нет
не пушечным тяжким
ядром; нет он выстрелил
Я...
И вот ту картину самого себя, умноженного в миллионах — шныряющих тел, наблюдал я повсюду в шинелях: тупые, глухие и животастые, всюду таскались тела, из которых стреляли в простор как ядрами, человеческими «Я»; эти «Я» вылетали из тел и «Оно» — неживое, тупое, — ходило повсюду.
И здесь же возникает образ «черепа» или «разъятого темени», дешифровка которого вызывает, пожалуй, наибольшие трудности и наибольшее количество толкований. Обращение к тексту «Записок чудака» позволяет увидеть ту образную и философскую систему, в которую этот образ входит прямо: «Я видел Его отражение во мне; и к себе самому припадая, касался Его — мысли мира спускались до плеч: лишь до плеч; „Я“ свой собственный; с плеч поднимался купол Небесный — Иоановым Зданием; ветхий же череп я, сняв с головы, как фонарь — поднимал: и — выходил на веранду...»
Таким образом, «ветхий череп» оказывается прямо связанным с Иоановым Зданием — антропософским храмом, в честь евангелиста Иоанна, который описал в своем Апокалипсисе последние времена.
Развитие образности «разъятого темени» позволяет, как представляется, понять и образ не только «боли» (что в связи с гибелью солдат первой мировой войны понятно), но и «моли нулей».
Не забудем, что при начале нового летоисчисления отсчет идет с нуля — в порядке, обратном времени предыдущей эры. Естественно, что если человечеству суждено дальнейшее существование после Страшного суда, то отсчет времени в той эре будет новым.
И у Осипа Мандельштама и у Андрея Белого получается комплекс взаимосвязанных образов: «война»,
Но осенила огромная сила: поток электрической бури прошелся по жилам и, глядя на черные стекла, звенящие от удара орудия, вскрикнул:Теперь в очерченный круг образов попало «сердце» — важнейший образ концовки «Стихов о неизвестном солдате»:
— «Так пусть умрет Он!»
Под Он разумел себя.
И поток электрической силы меня пепелящей, ударил по жилам; и все, что есть жизнь и тепло, сосредоточилось в сердце, его разорвало: мороз изливался в кисти и пятки, бежал по рукам и ногам, выедая тепло; —
— в то мгновенье осенил меня образ: —
— Огромного Человека, стоящего в мировой пустоте, ревевшего страшным проемом разъятого темени:
— «Ааа!»
— «Ааа!»
— «Ааа!»
— Это вскрикнуло «Я», вырываясь из тела.
Наливаются кровью аорты,Образ «наливающихся кровью аорт» в сочетании с годом рождения самого Мандельштама переводят «Стихи о неизвестном солдате» в очень личный план. Однако, замечает Л. Кацис, это будет так, только если вырвать эти с виду более ясные, чем весь остальной текст, строки из контекста «Солдата». Н. Я. Мандельштам в «Третьей книге» описала появление этих строк в контексте всего замысла, что принципиально важно: «...я хорошо помню три момента, когда О. М. мне показывал черновые записи и говорил: теперь все ясно... И — стихи будут — посмотри... Это строфа о черепе, затем „хорошо умирает пехота“ и, наконец, пришедшая едва ли не последней строфа: „наливаются кровью аорты“. Именно появление последней строфы — решило все. После появления этой строфы — организовалось все целое и остались только незначительные сомнения».
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором...
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.
В строках о «годе рожденья с гурьбой и гуртом» Н. Я. Мандельштам видела очередь с паспортами на регистрацию в ссылке, где был Мандельштам. И это тоже сгущает исключительно личный мотив в последних строках «Солдата»
Обращаясь к творчеству обэриутов, многие исследователи обычно готовы либо создавать для них специальную логику бессмыслицы, либо заведомо принять, что произведения членов ОБЭРИУ доступны лишь посвященным. В рамках темы «Эсхатологии в русской литературе» творчество обэриутов глубочайшим образом традиционно.
Восприятие революции в
В каких образах представлялась революция «от Февраля к Октябрю» русским поэтам? Михаил Кузмин в оде «Враждебное море» писал:
Посинелый языкЗдесь явственно просматриваются итоги Февральской революции, само же море несет в себе «призрак свободы болотно лживый», и из недр моря несется:
Из пустой глубины
лижет, лижет,
лижет слова
на столбах опрокинутого, потонувшего,
почти уже безымянного трона.
Проклятье героям, изобретшим для мяса и самок первый под солнцем бой.И еще, в ярком стихотворении Велимира Хлебникова:
И тяжелая от мяса фантазия медленно, как пищеварение, грезит о вечной народов битве...
В этот день, когда вянет осеннее,Не трудно видеть, что речь теперь идет уже об Октябре («осеннее»), а «закипевшие в море члены» напоминают миф об Уране, Гее, Кроносе, оскопившем Урана, и рождении
Хороша и смуглей Воскресения
Возникала из моря свобода
Из груды черных мяс,
Из закипевших в море членов...
Сказанное позволяет глубже понять и знаменитое стихотворение Анны Ахматовой:
Когда в тоске самоубийстваТо есть, как и описывалось в «Табаке» Ремизова, византийское, высокое православие заменилось гностическим апокрифом, и нет возможности отличить святого от дьявола.
Народ гостей немецких ждал,
И дух высокий византийства
От русской церкви отлетал...
Когда приневская столица,Заметим еще, что двойственность ситуации в России перед революцией совершенно не обязательно выражалась «эротическими» терминами. Вспомним Блока:
Забыв величие свое,
Как захмелевшая блудница,
Не знала, кто берет ее,
Мне голос был...
Грешить бесстыдно, непробудно,Так выглядело самоощущение русских поэтов перед революцией. И апокалиптические предчувствия не обманули их. Недаром полна дьявольщины «Поэма без героя» Ахматовой.
Счет потерять ночам и дням,
И с головой, от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм, ...
В рамках нашей темы это породило новую волну литературы по «половой» проблеме и, соответственно, пародий на нее. Пожалуй, наиболее ярким примером является «Антисексус» А. Платонова. Автор пишет в инструкции к изобретенному аппарату: «В век
Такое отношение к полу напоминает Рай — нормальный христианский Рай, где уже «не посягают». И речь у Платонова идет не о буржуазном Западе. Но о нашем «безгрешном» обществе, а «силушка», по словам В. В. Розанова, — грешна! Таким образом, реальная жизнь отличается от Рая именно тем, что, по «Антисексусу», надо исключить из человеческой жизни.
Переходя непосредственно к рассмотрению творчества обэриутов, прежде всего объясним термин «антиэротика». С учетом того же, что в Раю (после Апокалипсиса) «не женятся и не посягают», «антиэротичность» попадала в соответствующий контекст. Тексты подтверждают тезис, что телом обэриуты жили в нашем товарном мире, а духом — в мире горнем, послеапокалиптическом. Они ощущали себя вестниками. Приведем высказывание Я. С. Друскина, объясняющее позицию обэриутов: «Вестник — первое значение этого слова, ангел — уже последующее. Здесь это слова употребляется в значении „соседний мир“, „соседнее существование“. Вестники принадлежат к сотворенному миру, но присущи „состоянию за грехом“, к „святости, к которой человек призван“. Отсюда — рассуждение о времени (которому они не подлежат) и о мгновении, прорывающем время в вечность, которое для них не угасает»". К аналогичным выводам можно прийти, анализируя таблицы Д. Хармса из тетради «Существование» и «Письмо философу № 3».
Таким образом, термин «антиэротика»
Современники обэриутов Ильф и Петров писали в «Золотом теленке» буквально следующее: «Рассказ господина Гейнриха об Адаме и Еве. — Был, господа, в Москве молодой человек, комсомолец. Звали его Адам. И была в том же городе молодая девушка, комсомолка Ева. И вот эти молодые люди отправились однажды погулять в московский рай — в Парк культуры и отдыха...» Вспомним Ю. Тынянова: пародией трагедии может быть комедия и наоборот. Поэтому Рай (коммунистический Рай и т. п.) как пародия Ада (ср. московский Рай — Нескучный сад) ведет нас к проблематике «Мастера и Маргариты». Иначе трудно понять тот мир, где добром заведует Дьявол
Когда речь заходит о членах Объединения реального искусства. Хочется понять, что они сами говорили о себе, не упуская, в частности, из вида существенного эпитета «реальное». В «Декларации обэриу», в части, касавшейся Введенского, читаем «А Введенский крайняя левая нашего объединения — разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Введенский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, то получается видимость бессмыслицы. Почему — видимость? Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введенского нет». Это очень важное заявление. Ведь вспомним, что следовало за полным разложением слова у футуристов или «Черным квадратом» К. Малевича. Началась новая фаза — возвращение к слову и предметности через семантизацию элементов слова и картины. Состоялось то, что Шкловский назвал «Воскрешением слова». Ведь у тех, кто его разрушал, была вполне созидательная программа. Таким образом, к моменту появления обэриутов на литературной арене совпали сразу несколько смертей, воскрешений и новых миров. Новая изобразительность, новое слово и новое общество. Три взаимосвязанных духовно, но не формально, Апокалипсиса. Их синтез и составляет, на наш взгляд, основу обэриутского мировоззрения.
Словарь
Апокалипсис — от греческого «откровение». Имеется в виду Откровение Иоанна Богослова, одна из книг Нового Завета. Новый Завет признается только христианами, это мистический договор, союз, заключенный со всеми народами после и благодаря явлению Христа. Ислам признает святость Ветхого и Нового Заветов, персонажи этих книг играют важную роль в главной книге мусульман — Коране. Новый Завет состоит из четырех Евангелий (от Марка, от Матфея, от Луки и от Иоанна Богослова), Деяния Апостолов, Посланий Апостолов и, наконец, Откровения любимого ученика Иисуса Христа, одного из двенадцати апостолов того же самого — Иоанна Богослова. Процесс канонизации Нового Завета в основном происходил в конце 2 века и завершился к началу 5 века.
Эсхатология — от греческого слова «последний». Учение о конечных судьбах мира и человека. Различаются индивидуальная эсхатология — как учение о загробной жизни единичной человеческой души, и всемирная эсхатология — учение о цели космоса и истории и их конце.
Библиография
Белый А. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. М., 1917
Друскин Я. Вестники и их разговоры/Логос. 1993. № 4
Кацис Л. Ф. «...Я точно всю жизнь прожил за занавескою...» («Занавешенные картинки» Михаила Кузмина и В. В. Розанова)/Русская альтернативная поэтика. М., 1990
Кацис Л. Ф. Теология обэриутов: Д. Хармс и А. Введенский в контексте теологии Св. Духа//Лит. Обозрение. 1994. № 3–4
Кацис Л. Ф. Эсхатология и байронизм позднего Мандельштама: «К анализу стихов о неизвестном солдате»/Столетие Мандельштама: Материалы симпозиума.
Кацис Л. Ф. Русская эсхатология и русская литература. М., 2000
Ницше Ф. Антихристианин//Сумерки богов. М., 1987
Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923
Топоров В. Н. Заметки по реконструкции текстов. IV. Текст
Топоров В. Н. Пространство и текст/Текст: Семантика и структура. М., 1983
Тема № 249
Эфир 30.04.2003
Хронометраж 51:11