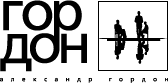gordon0030@yandex.ru
Голоса...
 18.09.2002
18.09.2002  40:00
40:00
 Стенограмма эфира
Стенограмма эфираКакие грани личности писателя открываются в авторском чтении его произведений? Что добавляет голос писателя к «немому» тексту? Собеседники «Ночного эфира» сегодня — Лев Толстой, Иван Бунин, Сергей Есенин. О «стихах для глаза» и «стихах для слуха», о том, что ускользает из текста и оживает в движении голоса, историк литературы, звукоархивист, директор музея Чуковского в Переделкино Лев Шилов.
Смотрите также продолжение программы.
Программа повторно вышла в эфир 02.07.2003.
Участник:
Шилов Лев Алексеевич — историк литературы, звукоархивист, заведующий
Материалы к программе:
Из книги Л. Шилова «Голоса писателей. Записки звукоархивиста». М., 2002.
Возможность услышать интересующего тебя автора, пусть даже не «вживе», а в записи, — щедрый и прекрасный дар нашего времени. Впрочем, это стало возможным уже более чем 100 лет тому назад, в
В июле 1877 г. в лаборатории американского изобретателя Томаса Эдисона латунный цилиндр, обернутый оловянной фольгой, впервые в истории человечества повторил слова, только что произнесенные, повторил песенку о Мэри и ее овечке.
Об этом изобретении Томаса Эдисона знают теперь почти все. Гораздо менее известно, что несколько раньше Томаса Эдисона звукозапись изобрел французский поэт Шарль Кро.
В разное время, в разных странах на фонограф были записаны голоса 0’Генри, Оскара Уайльда, Марка Твена,
И в России в начале XX века было сделано немало записей авторского чтения. Пожалуй, ни в одной стране мира публичные выступления писателей не проходили так широко и не имели такого общественного звучания.
Разумеется, дело тут прежде всего в той любви, уважении, почитании, которыми издавна окружена в русской культурной жизни личность писателя.
Вспомним, что публичные выступления Некрасова, Достоевского, Тургенева, Короленко становились подчас не только литературными, но и общественными событиями. Мы знаем об этом из мемуаров; сами писательские голоса необратимо ушли в прошлое.
До сравнительно недавнего времени уже сам акт фиксации писательского голоса предполагал произнесение
Эдисон просил Льва Толстого высказать в фонограф «идею, двигающую человечество вперед...».
Леонид Андреев начитал пластинку,
В 1908–1912 гг. по инициативе «Общества деятелей периодической печати и литературы» были записаны на грампластинках голоса Вересаева, Бунина, Куприна, Брюсова...
В 1915 г. появилось рекламное объявление о выходе
...В 1920 году Александр Блок продекламировал перед фонографом продуманную, строго выстроенную подборку стихотворений. Записали Есенина, Гумилева, Ахматову, Михаила Кузьмина...
В первые годы после Октябрьской революции и в конце
В
Но вот в конце шестидесятых и еще более в семидесятые годы многое в литературной звукозаписи и в отношении к ней изменилось.
Резкое повышение качества и неизмеримо возросшее (по сравнению с недавним прошлым) количество авторских звукозаписей, легко осуществляемых даже в домашних условиях, с одной стороны, привело к некоторой девальвации самой этой формы контакта писателя с аудиторией, а с другой — необычайно расширило возможности создания литературных передач, пластинок и документальных фильмов. Но та техническая легкость, с которой теперь фиксируется авторское чтение, и огромный объем записанного материала вовсе не равнозначны читательской, слушательской, зрительской потребности в звучащем писательском слове.
Лавинообразное увеличение объема литературных звукозаписей привело, в частности, к тому, что «право на грампластинку», которого в свое время тщетно пытался добиться Владимир Маяковский, получили сегодня сотни поэтов. Но беда в том, что часть из них (а точнее, подавляющее большинство) пока не получили такого «права» у слушателей: их диски, даже будучи уцененными иной раз до трех (!) копеек, так и не нашли покупателя, хотя книги некоторых из этих авторов имеют своего читателя.
Секрет такого, лишь на первый взгляд парадоксального, явления заключается в том, что существуют совершенно определенные закономерности, которыми обусловлен интерес (или отсутствие интереса) аудитории к голосу того или иного автора.
Совершенно замечательное собрание интереснейших литературных фонограмм пятидесятых годов принадлежит Московскому университету. Создатель этой коллекции, известный литературовед В. Д. Дувакин записал интереснейшие воспоминания современников таких писателей как Блок, Цветаева, Хлебников, Гумилев, Ходасевич, Мандельштам, Ахматова. Больше всего и охотнее всего он записывал воспоминания современников Владимира Маяковского, своего любимого поэта. (Долгое время до этого он вел семинар по творчеству Маяковского в Московском университете.) Некоторые записи он делал
В звукоархивистике понятие «уникальная запись» имеет свой особый, причем часто вовсе не стабильный смысл. Сама степень уникальности, «редкости» звукодокумента может существенно меняться с течением времени. Фонограмма того или иного писателя, еще вчера в буквальном смысле слова единственная, сегодня копируется, расходится по нескольким коллекциям. Завтра она звучит по радио, записывается во время трансляции на магнитофоны любителей и растворяется в море других записей. А послезавтра может снова стать почти уникальной. Ситуация, казалось бы, невероятная, однако я знаю тому не один пример.
...Знакомясь с чтением разных писателей, убеждаешься в том, что авторское произнесение в разной мере обогащает наше представление о самом произведении.
Если вам не пришлось слышать Антокольского, Вознесенского, Андроникова, Ахмадулину, Сельвинского, Самойлова, Жванецкого, Евтушенко, если вы только читали произведения этих авторов, то, уверяю вас, ваше знакомство с их творчеством далеко не полно.
Также много, хотя и меньше, вы потеряли, если не слышали авторского чтения Твардовского, Брюсова, Ахматовой, Пастернака... Чтение же, например, таких замечательных, лично мною очень любимых (хотя и
Дело в том, что звуковая, звучащая сторона произведения для одних писателей более, для других менее важна. Есть «стихи для глаза» и «стихи для слуха».
С внутреннего гула, постепенно проясняющего ритма начинается творческий процесс многих поэтов. Об этом пишут Маяковский в статье «Как делать стихи?», Блок в заметке о «Двенадцати». Рассказывают, например, что и Анна Андреевна Ахматова во время работы начинала «бормотать», «жужжать». Этот ритмический гул, звуковая оркестровка, возникающая одновременно или даже предшествующая возникновению строки, несомненно, в
Восприятие же слушателями стихов Северянина, Цветаевой, Асеева, Кирсанова и особенно Маяковского было гораздо полнее, результативнее, чем читателями. Эти поэты своим чтением выражали и то, что в тексте произведения не содержалось или было столь малозаметно, что легко могло быть пропущено даже внимательным читателем.
Это «нечто», на первый взгляд отсутствующее (или действительно не содержащееся в тексте), и возникающее именно в авторском чтении, очень трудно описать. Можно отметить лишь отдельные оттенки смысловой трактовки, которые несет интонация автора.
Можно, конечно, измерить и показать на графике высоту и силу звука, определить темп произнесения фразы и характеризовать тембр голоса, но все эти децибелы, секунды и герцы не дадут и сотой доли представления о живой интонации. То движение голоса, которое передает мысль и чувство автора во множестве оттенков, то, что содержится в глубине текста и психике творца, ускользает
Еще и еще раз убедившись в том, что мелодика произнесенного слова чрезвычайно сложна и ее нельзя записать нотными знаками, передать никакими схемами и графиками, особенно ценишь единственное средство закрепления и передачи живого слова — звукозапись.
Звукозаписью я начал заниматься случайно. В
В музее были пластинки с голосом Маяковского, которые иногда там прослушивали в конце экскурсии. Звучали они плохо, и обычно их включали для посетителей, особенно интересующихся творчеством и личностью поэта. Но когда слушаешь пластинки много раз и привыкаешь к их дефектам, начинает казаться, что слышишь голос самого Маяковского.
Специалисты Института звукозаписи в первое же мое посещение их лаборатории объяснили всю иллюзорность этого «эффекта слушания из другой комнаты». Но сказали, что запись действительно можно улучшить, если найти ее оригинал и тот аппарат, на котором она была сделана, — фонограф системы Эдисона. С этого все и началось...
Фонограф — это первый звукозаписывающий аппарат. Своим размером, весом, футляром он похож на старую швейную машинку фирмы «Зингер». Было время, когда он был распространен почти так же, как эти швейные машинки. Сейчас в это трудно поверить, но это факт, что в
В фонограф вставлялись не пластинки, а восковые валики — полые цилиндры размером со стакан. Они насаживались на стержень, вращающийся от пружины или просто от ручки. Сапфировый резец, присоединенный к мембране, легко нарезал на них по спирали неглубокие канавки. Под воздействием звуков голоса, уловленных рупором, мембрана заставляла резец колебаться, и в канавках, которые он нарезал, отпечатывались эти колебания. Достаточно было сменить резец на сапфировый шарик (это делалось примерно так же, как потом в электропроигрывателях переключалась игла звукоснимателя с обычной на долгоиграющую) и можно было слушать только что сделанную запись. Запись была, конечно, весьма несовершенной, но сама возможность вернуть только что отзвучавшие звуки восхищала и пугала.
В книге «Искусство запечатленного звука» Л. Ф.
Несмотря на хрупкость, недолговечность восковых валиков, некоторые из них дожили до наших дней. Есть среди них чрезвычайно ценные: голос Ермоловой, выступление Сеченова, игра Аренского на рояле, импровизированная речь Луначарского. Есть и не представляющие никакой
Толстой
Записи голоса Толстого не редкость. Они не раз звучали в передачах Всесоюзного радио, их можно услышать в московских музеях Толстого и в
Это обращение и звуковое письмо Толстого к Т. А. Кузминской вошли в грампластинку «Говорят писатели». Комментируя записи, Ираклий Андроников, в частности, говорил о том, что в 1908 г., когда изобретатель Эдисон прислал Толстому в подарок фонограф, писатель «стал охотно диктовать в аппарат краткие изречения и письма. В одном из них он обращается к свояченице Татьяне Андреевне Кузминской, многие черты которой в свое время воплотил в образе Наташи Ростовой».
В путеводителе по
«Толстой пользовался фонографом лишь первые месяцы. Он продиктовал в него несколько писем и начало статьи „Не могу молчать“. Но вскоре процедура эта показалась ему слишком сложной, и он перестал пользоваться фонографом. Сохранилось несколько валиков с записью голоса Толстого».
Еще до получения аппарата Толстой собирался диктовать на него свои воспоминания. Но, испытав фонограф в действии, поняв, что технические его особенности (необходимость смены валиков каждые
Фонограф стал средством для ответа на письма. Эти ответы отнимали у Толстого много времени, и фонограф обещал стать весьма полезным помощником. Из писем домашних Л. Толстого к А. Б. Гольденвейзеру, приведенных в его книге «Вблизи Толстого», мы узнаем, что некоторое время Лев Николаевич диктует почти все свои письма в фонограф, и это очень облегчает ему труд.
Диктовать в фонограф Толстой начал в последних числах января 1908 г. Как правило, он делал это в первую половину дня. Потом продиктованные в фонограф письма его помощники переводили из звучащего варианта в письменный не меньше чем в двух экземплярах — один для адресата, другой для «копировальной книги» (заведенной по инициативе В. Г. Черткова, чтобы ни одна строчка великого писателя не была утрачена для потомства). На следующий день или даже через день письма возвращались к Толстому для окончательной редакции и подписи.
Желание диктовать в фонограф возникало у Толстого, вероятно, и потому, что его мысль обгоняла процесс записывания.
Итак, до наших дней дошло не «несколько записей» голоса Толстого, как это было принято думать еще совсем недавно, а гораздо больше, около сорока. Только фонографические его записи (т. е. не считая граммофонных) звучат, как это теперь выяснилось, целый час и еще одну минуту. Из них для Музея Толстого и для фирмы «Мелодия» я составил две пластинки: «Лев Толстой. У старого фонографа» и «Говорит Лев Толстой».
Блок
Самым большим русским поэтом начала ХХ века был, несомненно, Александр Блок.
В тяжелые дни гражданской войны, голода и разрухи в клубе «Красная швея» читалась лекция о великих утопистах Оуэне и Фурье. А молодой
Запись происходила 21 июня в гостиной Дома искусств. Блок пришел в сопровождении жены Любови Дмитриевны и Корнея Ивановича Чуковского. Первыми были записаны стихотворения «Все, что память сберечь мне старается», «Девушка пела в церковном хоре», «Поздней осенью из гавани...».
Блок читал наизусть, но на всякий случай держал перед собой книгу. После записи аппарат был переключен на воспроизведение, и в комнате зазвучали только что прочитанные строки.
— Как странно слушать свой голос, — сказал Блок, — слышать извне то, что обычно звучит только внутри!
Можно предположить и то, что Блок отказался читать некоторые стихи не потому, что он их вообще никогда не читал (как поэму «Двенадцать»), а потому, что он не мог их читать именно сейчас, в данном физическом и душевном состоянии.
На следующий же день после того как была сделана запись, началось ее исследование в Институте живого слова.
Тщательнейшим образом измерялись все повышения и понижения голоса поэта, паузы, ударения, вибрирование голоса.
Я не знаю, слушал ли
Причины неудачи заключались в чрезвычайно слабой модуляции записей: поэт читал значительно тише, чем, например, Маяковский или Есенин. Надо учитывать и большую степень изношенности, стертости звуковых бороздок. Именно эти валики, как одни из наиболее интересных, прослушивались особенно часто. Перевозки из учреждения в учреждение, не всегда бережное отношение, не лучшие условия хранения и, главное, время — все это губительно сказывалось на хрупких восковых бороздках.
Из шести блоковских валиков лишь четыре дожили до наших дней. Далеко не сразу я решился начать над ними работу. Каждое лишнее прослушивание могло нанести им еще одно повреждение. Только отработав технологию восстановления и переписи (на менее ценных, но подобных по техническим качествам записях), можно было браться за валики Блока.
В октябре 1966 г. в реставрационной аппаратной студии грамзаписи, работая вместе со звукооператором Галиной Булочниковой, мы получили первую магнитную копию фонограммы одного из блоковских валиков, пригодную для дальнейшей реставрации.
Через шипение, шелест, потрескивание явственно слышался человеческий голос, голос Блока. Он читал стихотворение «В ресторане». Мы слышали глуховатый голос довольно высокого тембра. Голос звучал устало, как бы равнодушно. Лишь постепенно, после десятка прослушиваний раскрывалась его эмоциональная насыщенность.
Сначала захватывала музыкальная ритмичность. Я понял, что имел в виду один из современников поэта, говоривший о том, как «мучительно хорошо» выдерживал Блок в своем чтении паузу.
Потом я услышал и те «вздрагивания» голоса, о которых знал из мемуарной литературы.
На первый взгляд противоречивые свидетельства современников: «упоительное чтение», «бесстрастная ровность голоса в самых, казалось бы, патетических местах» — теперь объединились в моем сознании.
Маяковский
Маяковский хотел, чтобы его стихи воспринимали прежде всего на слух. Одно из замечательных его стихотворений так и называется: «Послушайте!»
Для Маяковского оно, несомненно, было программным: не случайно он выбрал его и для записи на фонограф.
Установку своих стихов на звучание он подчеркивает в названиях сборника стихов «Маяковский для голоса», поэмы «Во весь голос», в знаменитом её обращении «Слушайте, товарищи потомки...».
«У Маяковского, по существу, нет читателя, у Маяковского — слушатель» — так, несколько даже заостряя проблему, отметила эту особенность его поэтической речи Марина Цветаева, имея в виду то, что его стихи созданы прежде всего для произнесения вслух.
Причем для стихов Маяковского, как и для стихов Цветаевой, Асеева, Сельвинского, позже, например, Евтушенко, была особенно важна авторская интонация.
Легко можно представить, какое чувство радости и удовлетворения ощутил поэт, когда его «требование на грампластинку» было, как ему показалось, услышано и он получил приглашение прийти в студию грамзаписи записать свои стихи на серию грампластинок, которую предполагалось распространять по школам и клубам. Было это в конце 1929 г. Комплект пластинок предполагалось дополнить фотографиями писателей, плакатами, брошюрой с советами о том, как лучше использовать эти материалы.
Однако работники «Музтреста» воспротивились этой идее, сославшись на нехватку сырья для изготовления пластинок.
...Владимир Владимирович, узнав о решении комиссии, обещал точно быть в назначенный час в студии. Когда он появился в редакции, его спросили, как прошла запись. Владимир Владимирович сказал: «Она не состоялась по техническим причинам. У них там
Через некоторое время его опять спросили о том же, желая дать об этом информацию в газету. Владимир Владимирович стал мрачнее тучи: «У них и сегодня
Так бюрократы из «Музтреста» сорвали запись пластинок Маяковского, и до нас дошли только фоновалики, записанные С. И. Бернштейном.
Есенин
Когда впервые слушаешь запись голоса Есенина, его чтение кажется неожиданным. Поэт, который, казалось бы, должен был произносить свои строки проникновенно, задумчиво, певуче (именно так декламируют его стихи многие актеры), читает неистово, бурно, громогласно.
И теперь, услышав этот немного хриплый, подчас срывающийся, такой взволнованный голос, понимаешь, что раньше ты
Поэт Всеволод Рождественский свидетельствует: «Я слышал многих поэтов, но никто из них не читал с такой предельной выразительностью, с таким самоупоением. Каждая фраза была гибкой и точной в есенинской передаче».
С. Т. Коненков рассказал и о характерных жестах Есенина, которыми он сопровождал чтение. Характерный жест поэта и запечатлен на известной деревянной скульптуре Коненкова. Именно так чаще всего Есенин читал стихи: левая рука вскидывалась вверх, ладонь у виска, правая со сжатым кулаком поднималась и опускалась в ритм стиха.
Миклашевская (которой Есенин посвятил несколько стихотворений) сказала, что запись верно передает тембр есенинского голоса и темп чтения, удивительную страстность, даже одержимость, с которой он читал стихи с эстрады. «На правой ладони, — сказала Августа Леонидовна и показала где, — у него даже была мозоль, — так сильно он сжимал кулаки во время чтения. Но дома „мои“ стихи он читал
Записи
В первой половине тридцатых годов был недолгий период, который можно назвать «медовым месяцем» литературы и звукозаписи. Вскоре после того как был освоен способ фиксации звука на кинопленке, в киностудии, а также на фабрику «Радиофильм» были приглашены и Эдуард Багрицкий, и Якуб Колас, и Георгий Леонидзе, и Корней Чуковский, и Владимир Луговской, и Александр Серафимович.
Но тот период в начале тридцатых годов, когда стали делать сравнительно много литературных звукозаписей, к сожалению, оказался недолгим. Замысел снять на звуковую пленку И. Ильфа и Е. Петрова так и не был,
Зощенко читал рассказ «Расписка».
Самое неожиданное для тех, кто слушает Зощенко впервые, состоит в том, что свой необычайно смешной рассказ он читает почти без улыбки. Кажется, она промелькнула только в одном месте, да и то это не насмешка над героем, а, скорее, невольное удовольствие мастера от особенно удавшейся фразы.
Мемуаристы свидетельствуют, что во время выступлений Зощенко был совершенно серьезен, а когда ему приходилось останавливаться, потому что взрывы смеха заглушали чтение, то он глядел на слушателей как бы с некоторым удивлением и недовольством: что это с вами такое, почему вы, собственно говоря, смеетесь? Ничего, мол, смешного тут нет, и с вашей стороны даже странно и невежливо смеяться и мешать.
...Как это ни странно, но во второй половине тридцатых годов, несмотря на быстрое развитие звукозаписывающей техники, количество литературных фонограмм, как мне представляется, скорее сокращалось, чем увеличивалось. Звуковые киносъемки писателей в те годы были редки. Сейчас все они наперечет.
...Читателю этой книги может показаться странным такое обилие открытий в области звукозаписи, которое можно было сделать в 50 —
Наверное, такое положение объясняется тем, что сама звукозапись еще очень молода и человечество, активно используя ее для своих повседневных нужд, еще не стало достаточно серьезно относиться к ней как к важнейшему и вернейшему средству общения с потомками, как к способу хранения и передачи не только научной, но и эстетической информации.
Подавляющее большинство записей, о которых я рассказываю, создавалось на злобу дня, для конкретных, близких целей. Восковые валики коллекции Института живого слова — всего лишь побочный результат тогдашних лингвистических штудий. Звукозаписи Первого съезда писателей делались для того, чтобы передавать по радио фрагменты заседаний в определенные часы, удобные радиослушателям и объявленные в программах, а не для истории. Фонды архивов и сегодня пополняются в основном за счет записей, сделанных Всесоюзным радио и фирмой «Мелодия», но общее количество идущих по радио выступлений в сотни раз превышает объем записей, которые могут быть сохранены и научно обработаны. Да и идея создания такого звукового архива, выдвинутая С. И. Бернштейном в 1930 г., реализовалась поначалу в очень скромных масштабах. Отдел звукозаписи Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР был самым небольшим в этом учреждении. И на десятки тысяч звукозаписей, переданных туда различными организациями, часто без детальных, а иногда и вовсе безо всяких описаний, приходилось
Ахматова
Думаю, что такая полнота и представительность ахматовского фонда во многом определяются самим ее отношением к звукозаписи — вдумчивым, серьезным и вместе с тем
Вместе с тем, обращаясь к истории ахматовских звукозаписей, можно увидеть, как последовательно уклонялась она от чтения того, что было для ее творчества менее характерным или случайным.
Никому из журналистов так и не удалось, например, уговорить ее записать на пленку такие стихотворения, как «В пионерлагере», «Приморский парк Победы», «Песня мира», «Поджигателям», «Севморпуть», «И в великой нашей отчизне...» и другие, написанные в начале пятидесятых годов под давлением внешних, очень тяжелых обстоятельств. Этих и подобных стихов в авторском чтении мы не услышим никогда. Подчеркнуто негодующе отзывалась Ахматова и на попытки запечатлеть на пленке те стихи или беседы, которые она сама «для вечности» не предназначала.
Среди ахматовских фонограмм, хранящихся в Литературном музее, лишь один раз зафиксировано чтение таких совсем ранних стихотворений, как «Читая Гамлета» (запись 1962 года) и «Любовь» (запись 1963 года). Объясняется это тем, что в последние годы жизни — а большинство записей было сделано именно тогда — Ахматова обычно вообще отклоняла просьбы прочитать ранние стихи.
Игн.Ивановский рассказывает в своих воспоминаниях, как, не соглашаясь записать на его магнитофон стихотворение «Сжала руки под темной вуалью...», Анна Андреевна сказала:
«Я забыла, как это произносится».
Думаю, что это была лишь вежливая форма отказа читать одно из тех знаменитых стихотворений, особое пристрастие к которым иных читателей вызывало у нее оттенок досады. Но иногда некоторым счастливцам удавалось ее уговорить, и стихотворение «Сжала руки под темной вуалью...» дошло до нас даже на двух пленках: одна была записана в Москве поэтом Сергеем Дрофенко, другая — Зоей Давыдовой в Ленинграде.
Сурово и далеко не всегда справедливо говорила Ахматова о жене Пушкина. Вот, например, какие ее слова записал магнитофон в тот вечер:
— Я просто не знаю ни одной фразы, которую могла бы сказать в ее защиту. Я не знаю такой фразы. Когда она уезжала, она сейчас же забывала его адрес. Непременно. Потом, конечно, она транжирила деньги безобразно. Жить в деревне было спасением:
— Анна Андреевна, а что она сказала Ланскому перед смертью?
— Это уже красота!.. Когда она помирала, — она умирала от воспаления легких...
— А Ланской ее пережил?
— Да. Еще как! В этом все и дело... Ну, собрались, как всегда тогда бывало, все дети и все это такое... Очень траурное, торжественное настроение. Она благословляла детей,
Магнитофон для этой записи Питеру Норману одолжил известный в Англии литературный критик и автор радиобесед о русской литературе Виктор Франк.
В своих воспоминаниях он пишет о том, что, когда он привез магнитофон в номер, занимаемый Ахматовой, она спросила:
— А вы умеете с ним обращаться?
И пожаловалась на свое неумение ладить с техникой:
— Вы знаете, в 1927 году, я была еще молодая, поехала в Кисловодск. И там за мной ухаживали шикарные химики, академики
Библиография
Андронников И. Л. Слово написанное и сказанное/Андронников И. Л. Избр. произв.: В
Бернштейн С. И. Поэтика. Л., 1927.
Бернштейн С. И. Стих и декламация/Русская речь. Л., 1927.
В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963.
Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1928.
Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973.
Звучащий мир: Книга о звуковой документалистике. М., 1979.
Лакшин В. Булгакиада. М., 1987.
С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В
Толстая А. Л. Отец: Жизнь Льва Толстого.
Чуковский К. И. Современники. Минск, 1985.
Шилов Л. А. Голоса, зазвучавшие вновь. М., 1977.
Шилов Л. История одной коллекции/Звучащий мир: Книга о звуковой документалистике. М., 1979.
Шилов Л. Голоса писателей: Записки звукоархивиста. М., 2002.
Тема № 140–141
Эфир 18–19.09.2002
Хронометраж 40:00