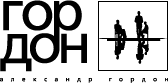gordon0030@yandex.ru
Когнитивная наука
 11.11.2002
11.11.2002  40:00
40:00
Что такое когнитивная наука и как язык влияет на категориальное восприятие мира? Действительно ли рационален человек в своём поведении и выборе? Почему наши знания о мире антропоморфны? О том, чем человеческий язык отличается от коммуникационных систем животных, а интеллект человека от «интеллекта» компьютера, — доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская и профессор Дрезденского университета Борис Величковский.
Участники:
Величковский Борис Митрофанович — доктор психологических наук (Дрезден)
Татьяна Владимировна Черниговская — доктор биологических и филологических наук
Развернутый план дискуссии:
• Возможно, когнитивная наука является ключевой дисциплиной ХХ века. Это мнение разделяли Нильс Бор и Альберт Эйнштейн. Всякая наука зависит теперь от когитологических предпосылок. Когнитивная наука — когитология — новое интердисциплинарное направление, зародившееся примерно двадцать лет назад. В результате старое разграничение между лингвистикой, психологией, неврологией и другими областями знания стали не столь явными. Язык это в принципе междисциплинарная проблема.
• Чем наш язык отличен от звериного? Как язык «уложен» в мозгу — разные взгляды. Голографическая идея структуры мозга и другие взгляды. Как зависит наше описание мира от языка? Зависимость категориальной сетки восприятия от языка (например, запахи и цвета). Роль «знаковой грамотности» и выносной памяти в сверхбыстром развитии культуры (по сравнению с биологическими временами). Кардинальная роль специфики человеческого мышления в познании мира, т. е. антропоморфность любого знания. Отличие «мышления» машины от такового у человека.
• Языковое мышление. В развитие начатого с Тульвисте разговора о разных типах мышления: рациональны ли человеческие существа, например, в своих экономических решениях и поведении?
• Каковы методы когнитивной науки?
• Роль гипотезы лингвистической относительности Э. Сэпира и Б. Л. Уорфа для развития когнитивной науки.
• Практические следствия когитологии представляют большой интерес и важность, например, для новейшей теории информации и коммуникационных технологий, для военной авиации, автомобилестроения, медицины и т. д.
Обзор темы
В книге «Литературный разум: Происхождение мышления и языка» M. Тернер вводит в лингвистическое пространство новые координаты, выделяющие роль матафорического мышления и дискурса в формировании сознания и языка Homo Loquens, противопоставляя врожденным символическим правилам как основе языковой способности человека Хомского парадоксальное, казалось бы, утверждение: «Язык — дитя развитого, уже „повествующего“ мозга». Ещё более парадоксальна идея, которую развивает T. Дикон «Язык — паразит, оккупировавший мозг». Мозг и язык, таким образом,
Мозг необходим для мышления, но недостаточен. Нужен опыт. Интеллект развивается. Роль коры у новорожденных детей крайне мала (чуть ли не 80% нейронов формируются после рождения). Общеизвестно, что общая масса мозга менее важна, чем его внутренняя организация и богатство связей, которые — как теперь становится всё более очевидным — в огромной мере зависят от того, чем данный мозг занимается и в какой мере. Потенциальная возможность говорить зависит от генетических факторов, а реальная речевая продукция — от опыта.
Ещё И. И. Шмальгаузен писал, что все биологические системы характеризуются способностью к саморегуляции, и среди факторов саморегулирования в онтогенезе нужно отметить три главных: 1. Развитие по генетической программе; 2. Развитие в зависимости от воздействия внешней среды — например отрицательное воздействие сенсорной депривации ведёт к недоразвитию мозга, дети — маугли и т. д. 3. Собственная сознательная саморегуляция — свойство, нарастающее с повышением ранга биологических объектов на эволюционной лестнице как результата возрастающей роли индивидуального, а не группового поведения. Признак эволюции — рост независимости от внешней среды. И, конечно, нарастающая относительная независимость от внешней среды уже внутри сообщества людей по мере развития человечества в целом и совершенствования отдельных индивидуумов в результате кропотливой работы самого индивида и воспитывающих=образовывающих его людей. Карл Прибрам, один из самых известных нейрофизиологов ХХ века, отмечает, что внешнее поведение организма определяется сложно организованным механизмом, сформировавшимися компетентными (как он это формулирует) структурами, функции которых зависят от опыта в данной внешней среде. Даже сам Хомский, главный из тех, кто настаивает на примате генетики для языка, подчёркивает различие между компетенцией (некоем врождённом знанием мозга о языке вообще, не конкретном языке) и успешной речевой деятельностью. Овладение языком это Принципы и Параметры (как он это называет), которые получаются из инпута, т. е. внешнего речевого окружения и, наложившись на общеязыковые алгоритмы, дают знание данного первого родного языка. Под компетенцией в теориях научения, неважно для животных или человека, понимают сумму знаний, которые определяют пределы успешности выполнения задачи. Если компетенция, в том числе и генетическая равна нулю, то никакие побуждения не могут вызвать выполнение данной задачи.
Приступая к обсуждению одной из мировых загадок (Хаксли), быть может, даже самой сложной из них, мы ставим себе скромную цель упорядочивания небольшой части существующих мнений и первых эмпирических данных о природе сознания. Значительная трудность состоит в неточности используемых понятий. На всемирном психологическом конгрессе
Интересно, что если 30 лет назад разгадку проблем, связанных с психологией сознания было принято искать в физических теориях, таких как квантовая механика, то сегодня доминирующую роль играют нейрофизиологические соображения. В связи с этим можно говорить об эпохе нейрофилософии сознания. Центральный факт состоит в распределенном характере обработки отдельных признаков и характеристик объектов в разных участках мозга. Например, когда мы видим движущийся желтый автомобиль, его форма, движение и цвет выделяются различными модулярными механизмами. Как объяснить интеграцию этих параметров в нашем субъективном опыте?
Одна из конкретных гипотез разрабатывается Нобелевским лауреатом по биологии (присуждена за открытие двойной спирали ДНК) Фрэнсисом Криком и нейроинформатиком Кристофом Кохом. Предполагается, что перцептивная интеграция, столь характерная для нашего сознательного восприятия, связана с синхронной активацией обширных областей сенсорной коры в диапазоне
Еще одна гипотеза предложена нейрофизиологом Гансом Флором (1991). По мнению этого автора, акт осознания — это функция нейронной сети в целом, которая и сама меняется в его результате. Он подчеркивает специфику биохимических и пороговых характеристик части синапсов нейронов головного мозга, а именно так называемых
Намечающиеся нейрофизиологические подходы не позволяют пока объяснить содержательные аспекты нашего субъективного опыта, в особенности его временные характеристики. Между тем именно здесь научный анализ до сих пор наталкивается на фундаментальные трудности при интерпретации восприятия событий и процессов инициации произвольных движений. Рассмотрим, например, хорошо известный и казалось бы простой феномен стробоскопического движения. При последовательном показе двух неподвижных объектов на близких позициях и с асинхронностью включения около 100 мс мы обычно воспринимаем лишь один объект, движущийся от места первого предъявления к месту второго. Если признаки объектов (цвет или форма) отличаются друг от друга, то в процессе движения происходит соответствующая трансформация восприятия — например, примерно в середине траектории иллюзорный объект меняет свой цвет на цвет второго объекта. Вопрос состоит в том, откуда наше восприятие может знать направление и скорость движения, а также характер необходимых трансформаций до того, как второй объект предъявлен.
Поэтому для многих авторов восприятие движения есть результат интерпретации стимульных событий, осуществляемой после показа второго объекта и лишь затем проецируемой в прошлое. С обычным для него остроумием Деннетт (1992) различает при этом оруэлловскую и сталинскую модели детерминации содержаний сознания. Первая модель обыгрывает работу «министерства правды» из знаменитого романа Джорджа Оруэлла «1984», которое занималось постоянным «исправлением» прошлого — вплоть до перепечатки старых газет — в интересах актуальной политической конъюнктуры. Применительно к стробоскопическому движению это могло бы означать, что вначале мы видим неподвижные объекты, но потом это восприятие корректируется на восприятие движения, а следы исходной версии событий стираются. По сталинской модели, все, что мы осознаем, есть результат отсроченной инсценировки, в общем случае имеющей слабое отношение к действительности. Прообразом здесь, очевидно, служат показательные процессы
Для Деннетта обе эти модели связаны с гипотезой картезианского театра. Если нет сцены и нет зрителя, то отпадает и необходимость инсценировки. Собственную точку зрения Деннетт осторожно формулирует как гипотезу множественных набросков. Множество латентных описаний текущих событий сосуществует одновременно, причем одни из них могут усиливаться по мере поступления новой информации, тогда как другие ослабевать. Отображаемое в подобных описаниях время событий не следует путать с временем поступления сенсорной информации. Так, если мы слышим фразу «Петя пришел после Маши, но раньше всех пришла Ира», то хотя в порядке поступления информации «Петя» упоминается раньше, чем «Маша» и «Ира», в сознательной репрезентации описываемых событий приход Иры будет предшествовать появлению Маши и Пети. Аналогично, кстати, обстоит дело и с пространственными характеристиками репрезентированных объектов, которые не следует путать с локализацией стимулов на рецепторных поверхностях — например, в силу стабильности видимого мира воспринимаемое пространственное положение объектов остается неизменным при сакккадических движениях глаз, меняющих положение стимулов на сетчатке.
Гипотеза множественных набросков пока сама имеет характер очень общего наброска, не позволяющего делать экспериментально проверяемые предсказания. По нашему мнению, при обсуждении проблемы сознания нужно учитывать два обстоятельства.
Рассмотрим сначала данные, показывающие что сознание и произвольные интенции — это сравнительно медленные процессы, тогда как внимание — быстрый. Мы неоднократно подчеркивали выше, что перерывы в зрительном восприятии, связанные с саккадами и с морганиями, обычно не осознаются нами, как и многие другие факты, например, наличие в поле зрения слепого пятна (участка сетчатки, лишенного рецепторов) и невозможность отчетливого восприятия уже на расстоянии нескольких угловых градусов от точки фиксации. Почему наше сознание говорит, что мы видим огромное, наполненное светом и цветом пространство? Потому, что когда мы начинаем спрашивать себя, «А вижу ли я отчетливо мое окружение, скажем, слева от рассматриваемого сейчас предмета?», наше внимание уже переместилось туда и еще не вполне сформулированный вопрос прерывается ответом — «Вижу, конечно, вижу!». Также обстоит дело и со стабильностью видимого мира. Всякий раз, когда мы задаем себе вопрос о положении видимых предметов, процессы быстрой пространственной локализации, оказывается, уже успели дать нам ответ. В результате у нас возникает впечатление непрерывного во времени и пространстве образа стабильного окружения.
В этом же контексте следует рассматривать и другую проблему, в равной мере важную для классической философии, психоанализа и современной нейрофилософии сознания. Мы объясняем наши действия и поступки в терминах сознательных целей и намерений. Существенны ли эти интенциональные состояния на самом деле или они лишь оправдывают наши действия post factum? В последние два десятилетия были проведены эксперименты, в которых можно было сравнивать время, когда испытуемые сообщали о том, что хотят совершить некоторое произвольное движение, и когда они реально начинали его делать или, по крайней мере, к нему готовиться. О последнем можно было судить по активации моторной коры или по переводу взгляда в нужную область пространства. Эти признаки внимания и подготовки действия возникали за 300–500 мс до того, как испытуемые отдавали себе отчет в том, что хотят осуществить действие. Не означает ли это, что настоящее решение было принято раньше, а интроспекция представляет собой инсценировку в духе картезианского театра? Сами по себе эти факты,
Возвращаясь к перцептивному сознанию, естественно попытаться проверить его связь с двумя выделенными ранее уровнями — предметного (фокального) и пространственного, «амбьентного» восприятия. По отношению к фокальной
Преимущество уровневой трактовки особенно отчетливо выступает при рассмотрении нейропсихологических данных. Согласно старым и некоторым новым работам по восстановлению движений, выпадение определенного класса движений может быть компенсировано за счет включения этих движений в задачи более высоких уровней. Так, пациент с поражениями уровня С может быть неспособен протянуть руку на определенное расстояние, однако легко осуществляет это движения в контексте предметного действия (беря шляпу) или символического социального жеста (предлагая гостю чашку кофе). Множество похожих наблюдений обсуждается и в современной когнитивной нейропсихологии. Например, в случае так называемого слепозрения (blindsight) — несколько спорного синдрома выпадения зрительного перцептивного сознания, возникающего иногда при поражениях зрительной коры — пациенты теряют способность восприятия предметов, но тем ни менее могут восстановить некоторые сведения о их семантической принадлежности. Наиболее многочисленные и надежные результаты такого рода получены при изучении нарушения пространственного осознания, известного как синдром игнорирования полупространства.
Этот синдром имеет несколько разновидностей, соответствующих множеству возможных пространственных систем отсчета, но чаще всего он выступает как игнорирование левой половины зрительного окружения. Нейрологические нарушения обычно связаны с поражениями правых теменных или премоторных областей, т. е. как раз тех структур, которые являются кортикальным субстратом уровня пространственного поля С. Специальные тесты показывают, что пациенты способны различать стимулы в левой части зрительного поля, но совершенно не обращают на них внимания ни в своем восприятии, ни в своих действиях. Точно такое же игнорирование полупространства возможно и в пространственных представлениях этих пациентов.
Канадская исследовательница Марлен Берман и ее коллеги (1996) показали, что в ряде случаев восприятие предметов может компенсировать выпадение пространственного осознания. Они показывали пациентам предметы, которые затем перемещались или поворачивались, так что некоторые их части теперь находились в игнорируемой половине пространства. Оказалось, что в этом случае работа с объектами в целом и в частности с их фрагментами, расположенными в обычно игнорируемой половине пространства, оказывалась возможной, что доказывает компенсаторное влияние уровня предметного восприятия D. Имеются данные о возможности выделения семантики, т. е. влиянии еще более высокого уровня концептуальных структур Е. При показе в игнорируемой часто полупространства изображений предметов пациенты не могут их назвать или опознать в прямом тесте на память. Но если им дается впоследствии задача лексического решения, то ее результаты свидетельствуют об имплицитной обработке неопознанных изображений: слова, семантически с ними связанные ведут к значительно более быстрым ответам. Самые яркие примеры уровневых эффектов при игнорировании полупространства получены с глухонемыми пациентами. В непосредственном восприятии и своих предметных действиях они демонстрируют стандартную картину игнорирования левой половины пространственного окружения. Ситуация однако резко меняется, когда эти пациенты начинают использовать язык жестов. Пространственное окружение используется в языке жестов для символического размещения упоминаемых в разговоре персонажей, что позволяет ссылаться на них в ходе разговора просто указывая пальцем соответствующее направление. Как оказалось, эти пациенты столь же часто и эффективно используют при этом левое полупространство, как и правое.
Итак, намечающийся в современных исследованиях подход к проблеме сознания напоминает старое римское правило «Разделяй и властвуй». Феномены сознания специфически связаны с уровневой организацией, причем на каждом из уровней они выполняют важнейшую функцию интеграции разрозненных модулярных механизмов нейрофизиологической обработки. Можно предположить поэтому, что по мере того, как будут уточняться детали уровневой организация познавательных процессов, будет проясняться и эта мировая загадка. Одной из важнейших областей применения идей уровневой организации, прямо связанный с различения нескольких форм сознания, стала в последние годы психология и нейрофизиология памяти, к рассмотрению проблем и методов которой мы сейчас и переходим.
Мнение, что мышление есть язык, или, по крайней мере «приватный язык», «язык про себя» широко распространено в истории науки. Столь же широко представлено мнение, что мышление (или познание в целом) определяется особенностями естественного языка. Эта точка зрения была чрезвычайно популярна в течение всего
Грамматика немецкого языка несомненно предъявляет особые требования к объему фонологической рабочей памяти, поскольку критический компонент правильной интерпретации сказанного, отрицание, может стоять в самом конце предложения. Возможные психологические следствия из этого факта, насколько нам известно, никогда не проверялись эмпирически. Другой пример: французские глаголы чрезвычайно абстрактны, тогда как русские глаголы требуют довольно подробной спецификации характера действия: для носителя русского языка змея «выползает», человек «выходит», птица «вылетает» — во всех этих случаях вполне можно было бы использовать один единственный французский глагол «sortir» («покидать»). Эти различия могут влиять на характер распределения внимания и на интерпретацию воспринимаемых и описываемых эпизодов, но опять же соответствующие эксперименты нам не известны.
Еще одно интересное различие между казалось бы совсем близкими языками состоит в том, что использование немецких глаголов движения неявно предполагает указание цели, там где английские глаголы допускают описание лишь потока последовательных изменений. Вероятная причина этого состоит в специфике аспекта — английской
Трудно удержаться от спекулятивного, к сожалению, совершенно непроверяемого предположения о том, что обнаруженные различия в описании событий могут обьяснять фундаментальные различия англоязычной (аналитической) и немецкоязычной (более целостной) философских традиций, а также тот неоспоримый факт, что атомистические подходы в психологии представлены, главным образом, работами английских и американских колллег, тогда как гештальтпсихология и разнообразные подходы к проблематике деятельности и действия первоначально возникли именно в сфере немецкого языка. Таким образом, даже если, как свидетельствуют экспериментальные данные, справедлива лишь слабая версия гипотезы лингвистической относительности, «слабое взаимодействие» языка и мышления также смогло привести к чрезвычайно заметным последствиям!
В последние два десятилетия в результате быстрого развития знаний о когнитивных процессах, а также демонстрации явной ошибочности строгой версии гипотезы лингвистической относительности проблема взаимоотношения языка и мышления начинает рассматриваться в совершенно новом аспекте. В работах по когнитивной лингвистике начинает доминировать точка зрения, которая может быть названа «речь для мышления». Предполагается, что за различными языками, при всем их разнообразии, кроятся единые когнитивные универсалии и общие социальные формы деятельности. Иными словами, некоторые фундаментальные процессы, или принципы организации познания универсальны и первичны, а языки отличаются характером средств, позволяющих выражать и поддерживать отдельные аспекты этих процессов.
Наиболее дифференцированное, проработанное вплоть до технических деталей обоснование этой точки зрения можно найти в работах по сравнению языков. Здесь же можно найти указания на то, что понимается под «когнитивными универсалиями». По мнению известного русского лингвиста А. Е. Кибрика, один из общих когнитивных принципов состоит в нашей чувствительности к различию нормального (естественного, ожидаемого) и атипичного (маловероятного, неестественного) положений дел в мире. В отношении языковых проявлений этого принципа, говорящий стремится выражать нормальное положение дел в мире простейшими языковыми средствами, или даже вообще не выражать, и использовать специальные кодирующие средства для менее типичного случая (см. Кибрик, 1998).
Примером может служить категория числа. Во всех языках для кодирования единственного числа используется меньше, или, по крайней мере, не больше лингвистического материала, чем для кодирования множественного. Очевидно в случае счетных объектов форма единственного числа является когнитивно нормальной. Иначе обстоит дело со словами, обозначающими собирательные совокупности объектов (морковь, брусника, песок). Здесь менее типичным и поэтому специально маркируемым оказывается аналог формы единственного числа (морковка, брусничина, песчинка). Другой пример действенности того же принципа связан с явлением анафоры — замены существительных и личных имен местоимениями, а иногда и так называемой «нулевой формой», когда референт вообще явно не присутствует в тексте, даже в форме местоимения, хотя постоянно имеется в виду по существу. Использование «нулевой формы» характерно, скажем, для кратких биографических описаний: «Родился в 1869 году. Учился в
Еще один универсальный когнитивный принцип связан с существованием личной сферы
я > мы > ты > вы > он/она > они
и целый арсенал грамматических средств, соответствующих разным уровням — «лицам» — этой иерархии (или, быть может, градиента). В частности, когнитивно нормальным, не требующим специального языкового маркирования является случай, когда первые лица играют роль активного начала, т. е. роль АГЕНСов высказывания, тогда как лица в правой части иерархии личных местоимений и безличные объекты — ПАЦИЕНСов. Всякие отклонения от этого, ожидаемого случая требует использования специальных языковых средств. То, насколько тонко язык реагирует на близость другого человека к личной сфере, можно проиллюстрировать употреблением местоимений «ты» и «вы». Обычно мы не можем, не нарушив границ личной сферы, обратиться к незнакомому взрослому человеку на «ты». Однако такое обращение естественно по отношению к незнакомому ребенку, а также к домашним животным. Существуют, впрочем, обстоятельства, когда включение незнакомого взрослого в собственную личную сферу вполне возможно, а именно тогда, когда существует хотя бы потенциальная угроза для его жизни: «Берегись автомобиля», «Не стой под стрелой!» и даже «Ну как мы себя чувствуем?».
Во всех приведенных примерах принципы когнитивной организации выявляются посредством языка, так что фактически мы наблюдаем некоторые
Разумеется, необходима дополнительная проверка этих новых данных и дальнейшее обсуждение теоретических подходов, чтобы можно было с уверенностью сказать, в каких контекстах деятельности и в какой форме (в частности, на каких уровнях) происходит взаимодействие мышления и речи. Главным итогом 40 лет когнитивных исследований «лингвистической относительности» является то, что эта фундаментальная проблема,
Библиография
Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. М.,1982.
Величковский Б. М., Зеличенко А. И. Компьютеры и познание: Эссе по когитологии. М., 1990.
Величковский Б. М. и др. Когнитивная психология 2000+. М., 2003 (в печати).
Леонтьев А. А. Деятельный ум: Деятельность. Знак. Личность. М., 2001.
Лурия А. Р. Язык и сознание. М., 1979.
Мамардашвили М. Мысль в культуре//Философские науки. 1989. № 11.
Райт Г. Понятие сознания/Пер. с англ. М., 1999.
Черниговская Т. В. В своём ли мы имени?//Альманах «Канун». СПб, 2001. Вып. 2.
Черниговская Т. В. Нейронауки и лингвистика: как совместить парадигмы?/Междисциплинарность в науке и образовании. СПб., 2001.
Франкл В. Человек в поисках смысла/Пер. с англ. и нем. М., 1990.
Chernigovskaya T. Neurosemiotic Approach to Cognitive Functions//Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies. 1999. V. 127. № 1/4.
Chomsky N. Knowledge of language: its nature, origin and use. NY, 1986.
Communicating meaning: The evolution and development of language/Ed. B. M. Velichkovsky, D. M. Rumbaugh. NY, 1996.
Deacon T. W. The Symbolic Species: The
Pinker S. Rules of language//Science. 1991. № 253.
The MIT Encyclopedia of Cognitive Science/Ed. R. A. Wilson, F. Keil. Cambridge, 1999.
Turner M. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. NY; Oxford, 1996.
Тема № 167
Эфир 11.11.2002
Хронометраж 40:00