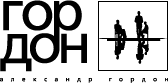gordon0030@yandex.ru
Технология творчества: Норштейн
 19.12.2002
19.12.2002  40:00
40:00
С какого момента начинается феномен изображения на экране? Где та первая точка, после которой можно говорить: здесь начинается чудо мультипликации? Почему в таинстве соединения ритмов и рифм левая рука не знает, что творит правая, а творчество возможно только после пути, проработанного знанием? Об искусстве мультипликации, заставляющем в ужасе и упоении сочинять все — от первой линии на белом поле до последнего наслоения звука при перезаписи, — в цикле «Технология творчества» кинорежиссер и художник Юрий Норштейн.
Участник:
Норштейн Юрий Борисович — кинорежиссер, художник, мультипликатор.
Материалы к программе:
Из интервью «Новой газете» (№ 14 от 10 апреля 2000 г.)
— Мультипликация очень свободное искусство. А вы сознательно ограничиваете возможности, и вам приходится со страшной силой их преодолевать. Для чего?
— Когда меньше возможностей, начинает более активно работать... я не знаю, творческий фермент... ум, фантазия... Я боюсь возможностей без ограничений. Свобода без берегов — это лужа.
— Поэтому вы выбрали такую безумную технологию?
— Это не технология. Это метод работы. Нужно ограничить средства, и тогда эти средства начинают работать интенсивно. Вот, например, мы ставим кинокадр. Я говорю Саше Жуковскому (оператор, ближайший друг и единомышленник; трагически погиб в этом году): действие развивается от этой точки, дальше идет вниз, вбок. При этом фигура должна разместиться вот так. «Как обычно, — роняет Саша, глядя в окуляр, — лучшая точка — на грани невозможного». Выворачиваем камеру так, как она технически совершенно не приспособлена. Подставляем
— А чем плохо, если бы эта суперкамера была? Вы же заказывали в Таллинне мультстанок по собственным чертежам — такой, как нужно именно вам, для вашей работы?
— Технологический момент в мультипликации абсолютно равен чисто творческому. Твой эмоциональный поток должен пройти через ряд рациональных моментов. Самая страшная сторона мультипликации. У живописца его нерв, карандаш, рука точно воспроизводит его внутреннюю вибрацию. Здесь твоя внутренняя вибрация проходит через рациональные фильтры.
— Слишком мощные фильтры поглощают вибрацию?
— Технология должна сопротивляться тому, что ты придумал.
<...>
—
— Безупречен?
— Безупречен. Да. И тогда вот что произошло. Помните, он там в одеяло кутается? Знаю, что мне нужно, но не знаю — как. И я просто попробовал. На один слой целлулоида, процарапанный шкуркой, наложил другой, третий, четвертый... Сумма царапанных фактур, такое звездное небо, звездная пыль, плазма... В живописи это называется фуза. Когда с палитры сгребают все подряд. Вот здесь то же самое. Фуза. Ладонью начал все это сдвигать и вдруг вижу: внутри там ворочаются такие фактуры... Такая красота... И я стал поверху, по целлулоиду рисовать прямо шкуркой. И когда на фоне это серой массы возникал, например, угол складки, она тут же становилась реальной. Щелкнуть осталось, чтобы покатилось в нужном направлении. Но надо было к этому прийти, доползти! Поэтому я говорю, что мы с Франческой прошли огромный путь познания.
— Вы здорово ее тираните?
— «Ах, русское тиранство — дилетантство, я бы учил тиранов ремеслу...» Вот с Франей у нас каждое новое кино проходит стадию нового ремесла. Когда писатель пишет, он же вычеркивает. В мультипликации можно изобразить, как слово под этим штрихом кричит: АААА! И исчезает. А как быть режиссеру, который работает с
<...>
— Я люблю последние работы Микеланджело. Вот незаконченная «Пьета Ронданини». Ему 89 лет. Ноги и обрубок руки там от прежней скульптуры, они отполированы и погружаются в стихию мрамора, который просто грубо обработан троянкой. Впечатление ошеломляющее, как будто это взорвали
— Вы мне
— Да, левой рукой. Начинает любоваться собой — перешла на «хорошее рисование», все: Франечка, возьми в левую руку, пожалуйста, карандашик. Потому что мне это — не нужно. Это уровень мастерства, то есть ремесла. Что мне не позволило в итоге сказать о фильме Саши Петрова («Старик и море»), что это — полноценное художественное произведение. Потому что там его мастерство, само по себе фантастичное, перевесило, передавило и, в конце концов, раздавило фильм. О мастерстве надо забывать. Пророк Моисей заикался. Существует труднейший проход между соблазнами, и если ты его прошел — вот тогда ты можешь выйти в совершено другую стихию. Поэтому когда Франческа начинает прилежно рисовать, я из себя выхожу: Франя, ты что, не помнишь, через что мы с тобой прошли? Мне не нужна твоя виртуозная вертлявая кисточка! И пока она не измучается «по самое не могу» — только тогда начинается нормальная работа. И она начинает работать с легкостью просто невероятной. В этом смысле я — да, я злодей, тиран и все такое.
— А режиссерская свобода в отношениях с текстом — не тирания?
— Нет. Это именно свобода. Я должен почувствовать, что каждое слово исходит от меня. Я услышал реплику одного известного режиссера: мы должны бережно прикоснуться к тексту... И это о текстах, которые называются «Страсти»! Все. Ничего не будет, кроме ликбеза, иллюстрирования событий. Гоголь... Тайная музыка владела его душой. Его тексты ритмически объединены ужасом одиночества. Эти параллели
— Набоков писал, что «Шинель» — это «гротеск и мрачный кошмар, пробивающий черные дыры в смутной картине жизни... Подайте мне читателя с творческим воображением, эта повесть для него». Вот, можно сказать, он дождался. В вашем лице...
— Знаете, что сказал Ролан Быков? «Лучше меня Башмачкина сыграл только Норштейн». (Смеется.)
— Так и есть. Но вот это творческое, то есть иррациональное чтение привело,
— Ну правильно: дают третье. Под воздействием слова, как реактива, изображение обретает собственную волю. Смотрите. Эпизод, когда Акакий приходит домой. Я не предполагал, что он будет таким длинным. Он сам стал себя развивать. У Гоголя
— Абсолютное кино, да! Мост сломался, а будка часового повисла в воздухе...
— А люди неподвижны... Это же фантастика! И это мне сразу раздвигает строчки «Шинели», втискивается между ними. Вот такая прививка. Только так, я думаю, может взаимодействовать текст литературный с кинематографическим.
— Есть художники, которые пишут разные тексты. Закончил — и закончил. А есть такие, которые всю жизнь пишут один Метатекст.
— Гоголь так писал.
— И вы,
— Все имеет естественное развитие. Я и не думал никогда о «Шинели», пока не влупился в нее, не врезался с разлету. А до этого ничего близко не было. Читал Гоголя абсолютно не «творчески». А когда врезался — вспомнил вдруг, при каких обстоятельствах впервые прочитал «Шинель», и тогда...
— А при каких?
— У нас был двор в Марьиной Роще, куда выходили окна
—
— Точно. Впечатление совершенно невероятное. Бесконечные нити в перспективу...
— Светлый путь...
— И свет из этих окон падал на бревна, которые лежали там с незапамятных времен. На этих бревнах мы сидели и читали всякие страсти. «Вия»... Как было страшно! Этот гул... Там же я и прочитал «Шинель». Конечно, впечатление ребенка потом забылось. Но теперь я думаю: все, что было потом, делалось через эту прививку моих двенадцати лет.
Это все постепенно собирается, когда оглянешься... навсегда уходит тот мир, где ты жил. Двухэтажный старый дом... Двор... Ты вдруг начинаешь понимать, что на
— Все оттуда. Пластинка времени — это состояние. И вот оно сошлось со мной, теперешним. Круг замкнулся. Но это вовсе не значит, что все заканчивается, и я решил для себя все вопросы.
— У меня от вас ощущение вампира, который питается искусством. Помню, как вы слушали
— Да, все время его слушал, без конца, запойно... А использовать не смог. Не прорастает вместе с изображением, как прорастает музыка любимого моего Мееровича... (Михаил Александрович Меерович, прекрасный композитор, автор музыки ко всем фильмам Норштейна.)
— Высасываете слово, высасываете музыку, пьете кровь из этого художественного вещества, наполняющего мир, питаетесь им — и это дает вам силу. Так?
— Отчасти так... Но что я выбираю из искусства? Все, бывшее со мной. Что с этим не соотносится, мне неинтересно. Поэтому я люблю изобразительные сочинения, которые пронизаны очень высокой страстью. Это последняя работа Микеланджело, которая манит невероятно высоким напряжением. Рембрандтовское «Возвращение блудного сына», последние работы Гойи — про тюрьмы и сумасшедшие дома. Вы понимаете?
— Да. Бывает такое опасное напряжение сумерек...
— Не надо это так рассматривать, что я привержен трагизму... Я привержен правде. То, что есть. Но если нету рядом с такой правдой прекрасного, то жить просто невозможно. Это понятно. Вот, например, лицо старухи — оно некрасиво. Но оно — прекрасно. Она уже не сможет соврать, ну никак не может. Потому что это лицо выбито изнутри ее жизнью. Какая была жизнь, такое и лицо.
<...>
— Может, все потому, что... Сколько себя помню, не забывал, что я — еврей. И это было так жутко и так сильно... Спасало одно: есть комната, куда я могу прийти, и...
— Детская травля?
— Да, что еще страшнее. В школе вообще не знали другого языка. Мне один парень
— Тоже вошел в ваше кино?
— Конечно.
«В первом ощущении фильм гудит, как стиховой ритм. В
— На «Сказке сказок» был простой такой рисуночек: сидит человек на кровати, и я думаю — ну где же я это видел? Это был Поэт, герой «Сказки сказок». Сумерки, тень на стене... И я позвонил Люсе Петрушевской: знаешь, что мы будем делать после «Сказки сказок»? «Шинель».
— У вас в мастерской висит фотография Шаламова — этот последний знаменитый снимок в богадельне. Где он сидит на кровати...
— Я без нее просто не могу.
— Прототип?
— С этой фотографией была мистическая история. Вначале Акакий должен был сидеть у нас за шкафом. И вот я стал рисовать, и шкаф стал мешать. Стало тесно. Я понял, что нужна самая простая мизансцена: угол. И сидеть, говорю, он должен на кровати. Так будет точнее. И тот рисуночек из «Сказки...» опять толканулся в голову. Все стало вставать на свои места. Рваные обои, все будет наполняться пылью... Я видел одну фотографию — в тифозной избе. Такое чувство, что от этой фотографии можно заразиться тифом. Я говорю: Франя, нужна такая атмосфера, чтобы все пахло... В
— «О, как я угадал»?
«Спустя несколько лет (после „Сказки сказок“.) увидел фотографию Гумилева и поразился сходству с нашим Поэтом. Вдруг увидел жест, почти точно повторенный... Тот же абрис головы, припухшие веки и... рот. Такое впечатление... как будто они, поэты, пробуют слово воздухом».
— У меня возникла идея одного фильма на японском материале. Я придумал такой сюжет: человек ушел в горы от императора. Ушел, чтоб быть свободным. А император ему отомстил. И вот однажды в Японии я увидел акварель
— В этом «угадывании» действительно есть большая загадка, когда фантазия художника совпадает с реальностью, которой он не знает. То, что могло бы стать конкретным прототипом, на самом деле становится архетипом, неведомым источником, из которого растут наши вымыслы. Когда смотришь ваше кино, хочется плакать, невесть почему, — как на фильмах Феллини и Тарковского. Не от того, что на экране, а оттого, что там, ЗА кадром. От той истории, что УГАДЫВАЕТСЯ за пределами экрана. В мультипликации, мне кажется, этой тайной владеете вы один.
— Опять вопрос отношения слова и изображения. Иллюстрации и фантазии. Фантазия расширяет экран. За символом должна стоять история — иначе он превратится в дорожный знак. Конкретные изображения христианского искусства вовлекаются в мощный мифологический поток и потому несут тайну, как символ креста. Если бы Христос родился в гостинице, на кровати, с повитухой? Все. Мгновенно теряется тайна, а значит, и пища для фантазии. «И тропа расширялась», — пишет Бродский. В восстании Спартака вдоль всей Аппиевой дороги стояли кресты с распятыми, и никто из них не знал, что воскреснет. В Евангелии эта предопределенность была. Когда говорят, что Христос взял на себя все муки за всех... Были муки и посильнее. Я подхожу к этому моменту вольнодумно. Когда речь идет о таких грандиозных именах и событиях, то чем ближе они к нам, к земле, тем сильнее для души и выше по вертикали. И шире тропа. Мог, мог Он родиться в гостинице... Но обратите внимание: Моисея нашли в реке, в корзине... все личности такого сорта имеют тайну.
— И Будда родился в лесу, хотя был сыном принцессы.
— Да. Все из одного ядра расщепилось. Верую, ибо абсурдно. Должно оставаться поле тайны. То же относится и к кино. Материя завершаема и в конце концов статична. Необходимо довести ее до такого состояния, когда она продолжала бы развиваться. Содержала тайну. И это самый болевой момент. Смотрю эскизы коллег, вижу, что человек работал над материалом. Но он каменно все завершает и начинает рассказывать мне в рисунке, как хорошо умеет рисовать. А меня эта сторона вообще не интересует.
— Вы чувствуете себя сейчас — ну я не могу сказать изгоем, но отшельником по отношению ко всем остальным в мультипликации?
— Пока нет, но со временем, думаю, я буду это сильно ощущать. У меня никогда не было чувства соревнования. Я и в карты не играю. Если я
— Может, скоро придет время маятнику качнуться в другую сторону? Пройдя через путь цитат?
— Это вы насчет постмодернизма?
— Так что, без Нагорной проповеди не обойтись?
— Хотя можно ее и не знать — и говорить о таких же важных вещах, о каких говорил Христос. И тогда сойдется, и можно получить тот же результат. Только с другого конца.
— И для этого не нужен библейский сюжет?
— Да. Он станет библейским...
— Как рассказы Шаламова.
— Да. И все встанет на свои места. А когда с придыханием начинают карабкаться на библейские высоты — ничего не получается. Кроме муляжа.
— Похоже, у вас довольно сложные отношения с религией.
— Почему, довольно простые. Просто страшно раздражает этот комсомольский набор в церковь. Папа Иоанн Павел II сколько раз облетел земной шар? Церковь обязана нести мир, если политики не могут. Что же наш Патриарх? Может быть, он объединяет усилия с мусульманскими лидерами? Ездит в Чечню? Встречается со страждущими? Гневен с олигархами? Неладно у нас в церкви...
— Вы
— Художник не может быть атеистом. Что же — красками, что ли, он пишет? Но при этом меня мутит от ритуальности, которой обрамляется всякий духовный акт. В Японии — два религиозных направления: одна религия для неба, а другая для земли. Для быта. И в этом большая правота. Это подкрепляет мое ощущение, что чем сильнее мы привяжемся к запаху земли, ко всему земному, тем сильнее будет луч вверх валить.
— Та японская история привлекла вас идеей свободы или фактурой?
— Она привлекла меня своей простотой. Творец никаким краем не совпадет с властью, с политикой... Поэтому для меня было такой мерзостью, когда эти побежали вручать свои верительные грамоты... Как были при дворе, так и остались...
Из книги Юрия Норштейна «Снег на траве»
С какого момента начинается феномен изображения на экране — загадка. Где та первая точка, после которой можно говорить: здесь начинается мультипликация? Не знаю. Знаю только, что сначала есть чистый лист бумаги — в отличие от игрового кино, где нет такого листа. Куда бы ты камеру ни навел, для тебя уже приготовлен «и стол, и дом»... Даже если ты берешь актера, чтобы его загримировать, до неузнаваемости преобразить, ты все равно берешь живую материю. А вот что берем мы?
Меньше всего для меня мультипликация — кинематограф. С ним ее объединяет лишь способ нанесения изображения на пленку и прокручивания пленки через проектор — способы чисто химические и чисто оптические. В остальном — совершенно непонятное искусство и сравнимо оно для меня прежде всего, конечно, с литературой, а потом с театром, хотя, казалось бы, природа мультипликации чисто изобразительная. Почему с театром? По соотношению условности и сверхнатуральности, например. Мы же знаем, что в театре достаточно темноты сценической коробки, только черного провала сцены, и вдруг
И еще, разумеется, «над вымыслом слезами обольюсь»...
Чем больше неожиданности, вымысла, тем лучше для мультипликации. Мультипликация — это тайны сознания и чувства, помещенные на пленку.
Никакая промежуточная материя не мешает изображению отражать наши чувства, если не считать, что само изображение на пути к еще неотчетливому фильму является вынужденным и необходимым ассортиментом. Изображение — функция действия. Чувства отражаются от натуральной материи, превращая ее в фантазию, — обязательное условие любого творчества. В мультипликации же — основное.
Есть дивный «Натюрморт с кастрюлей» Пикассо. Под ним дата — 1945 год. Цвет сплавляется с текучими формами, образуя единую гармонию. Белый,
Натюрморт из аккуратно разложенных орудий распятия Христа тоже литературен, арифметически перечисляем, как музейный экспонат. Но страшен и глубок, поскольку мы знаем, какие таятся страсти за бесстрастной простотой. Соединяясь со словесным сюжетом, натюрморт становится метафорой.
Словесную метафору мы проходим безоглядно, без страха подавиться. Живопись давит остановленной метафорой, не содержащей в себе отголосков литературы, не поддержанной сюжетно. Религиозная живопись при всей ее метафоричности рассказываема. Что значительно облегчает ее понимание. И при этом — какая свобода изображения!
В словесном восприятии реальность неконкретна, каждый читающий видит ее
Высшее достижение живописи — когда статичное изображение бесконечно обновляется в нашем восприятии. Оно меняется оттого, что сюжетная и абстрактная стороны соединяются в одно целое. Сила рассказа в живописи должна быть равна изобразительным средствам. Бесконечные переходы от вопроса «что?» к вопросу «как?» Чем бесконечней эти переходы, тем богаче художественное произведение. Именно они, эти переходы, создают условия «текучести», нетвердости изображения. Без энергии линий, цветового «раздавленного алмаза» изображение мертво. Несоответствие психологической готовности и предлагаемых изобразительных условий наполняет знакомую нам реальность дополнительной энергией и меняет ее. Соединение несоединимого рождает метафору. Предмет и сравнение сливаются в одно целое. Например, лист дерева и птица у Магрита или литературная метафора «листья травы» Уолта Уитмена. Сальвадор Дали пишет растекшиеся часы. Их конкретность нас шокирует. Но нам привычно выражение «время течет». Метафора повышает энергию изображения, делает его подвижным, то есть присоединяет к изображению время. Слова, сцепляясь в одну фразу, управляют друг другом, меняя свой привычный смысл. Не будь так, нам бы пришлось сочинять столько слов, сколько значений потребовала бы от нас реальность. Но тогда она навсегда потеряла бы образность и заменилась бы бухгалтерским отчетом. То же и в изображении. События истории, превратившись в образный опыт, сократили и возвысили понимание жизни. Живопись на религиозную, известную нам тему еще до результата уже есть метафора. Изображение разомкнуто предшествующей историей.
«Дерево заглядывало в окно». Наш опыт, не задумываясь, прочитывает эту фразу. Глагол делает дерево зрячим, награждая его почти религиозным смыслом. Сколько же времени нужно для киноизображения, для мультипликации? Ветка постукивает в окно, мы открываем раму, и ветка проникает в комнату, покачиваясь и шумя листвой. Она бродит по комнате вместе с героем или героиней. Она стряхивает капли дождя, она заполняет комнату облаками, птичьим гомоном, она пересаживает уличный пейзаж в комнату, усиливая выразительность интерьера и пейзажа. В мультипликации меня более всего мучит необходимость замкнутого изображения и желание сделать его внутренне подвижным, как подвижно в сознании словесное изображение.
В предложении «Дорога убегала в лес» глагол в прямом значении не соответствует слову «дорога». Он повышает энергию всей фразы и превращает ее в образ. Чтобы сделать подобную картину в киноизображении, необходима конструкция кинокадра, дающая эффекты ныряния дороги среди лесных холмов, неожиданное ее появление
Но вот замечательный пример метафоричности в тамильской поэзии. Поэт, чтобы передать бег дороги среди всхолмленного леса, пишет, что дорога похожа на спину бегущего слона! Очень точное ощущение дороги, протянувшейся по глыбистой местности. Под серой грубой шкурой перекатываются гигантские мышцы, лопатки,
Маяковский материализует слово. Его слово — объектив, преобразующий реальность. Я был этому свидетель. Однажды зашел в огромную рабочую столовую. Столовая — гигантский зал, наверное,
Рисунок всего этого мог выглядеть приблизительно так: уплотнившаяся масса наверху сталкивается гранями, гремит, как сдвигаемые кубики. Этакая громоздящаяся кубистическая туча над головами беседующих. Иногда в этой массе появляется подобие рта, или уха, или рука, подтверждающая звук. Звуковая громада медленно вращается, ударяясь многими гранями. Кубы звуков поднимаются медленно вверх от говорящих и так же медленно обрушиваются на головы — мягко, без травм, но чувствительно, чтобы принять удар за аргумент в разговоре. И поэтому врезать соседу по уху. Вот тогда я и увидел Маяковского: «У меня изо рта шевелит ногами непрожеванный крик». Под потолком клубится
Так с какого же момента начинается мультипликация? Этот вопрос — часть шарообразной поверхности, на которой разместились другие вопросы. Крутя этот шар в руках, можно начать с любых, которые так или иначе связаны с мультипликацией, находятся на одной географической поверхности. И каждый из них — начало открытия материка. Подплыть к нему можно с разных сторон, но, не зная другого берега, вряд ли мы достоверно сможем судить о его пространстве и качестве...
<...>
Мне бы хотелось построить разговор так, чтобы мы могли говорить о мультипликации, как части общей культуры. Мы будем говорить о понятии времени в мультипликации и других видах кинематографа: коснемся проблемы времени в статичных искусствах — в живописи и скульптуре.
Разговор пойдет о том, как отдельные элементы фильма — персонаж, пространство, цвет, звук, слово, фактура, пауза, игра и т. д. и т. д. — соединяются в общую энергию фильма; каким образом целое складывается из обмена энергиями каждого отдельного элемента между собой, как изображение влияет на игру персонажа, как конструируется персонаж в зависимости от его игры, как само изображение становится драматургией фильма. Ну и, собственно, какие свойства изображения проявляет сама мультипликация.
Отвечая на поставленные вопросы, мы сможем открыть некоторые условия, которые позволяют нам делать кино, выяснить «теоретические» моменты.
Слово «теоретические» я взял в кавычки, хотя бы потому, что еще ни одна теория не создала школы (в науке другое — без школы она не развивается).
И все же мы пойдем по пути «теории», находя сближения в разных искусствах. Переведем то, что числилось в мультипликации за тайной творчества на язык технологии; последнее вовсе не означает, что мы лишаем творчество тайны.
Технология позволяет раскрывать чувственную сторону мультипликации, феномен изображения, который вполне размещается между теорией и технологией. Теория в данном случае часть чувственной стороны мультипликации, поскольку позволяет находить тонкие связи в изображениях различных видов искусств. Здесь теория может подать слабый голос. Во всяком случае, попытаемся эти связи наметить.
Но... один существенный, а на самом деле главный момент.
Теория предполагает некий логический путь, понятный и доступный любому прилежному режиссеру.
Теория там, где работа ограничивается полученными знаниями. Знания могут выбрать из тайны фильма слои, способные быть переведенными на уровень технологии, то есть на уровень объяснения. (Под технологией я подразумеваю и саму кинокамеру, и съемочный станок, и компьютер; в нее же входит получение пространства кадра, конструкция персонажа и декораций.) Наша радость владения способом изображения дурна — это всего лишь ремесло. Тайна там, где мы остаемся с вопросами без ответов. Но
Библиография
Асенин С. Мир мультфильма. М., 1986.
Асенин С. Юрий Норштейн — ступени, ведущие вверх//Киномеханик. 1991. № 8.
Венжер Н. Юрий Норштейн//Кинокалендарь. 1991. М., 1990.
Галина Г. Сказка сказок//Культура и жизнь. 1988. № 4.
Норштейн Ю. Лекции для слушателей Высших сценарных и режиссерских курсов Госкино СССР//Аниматографические записки. 1991. Вып. 1.
Норштейн Ю. Великий немой//Искусство кино. 1996. № 4.
Норштейн Ю. Заново отыскать простоту...//Искусство кино. 1997. № 3.
Норштейн Ю. Снег на траве//Искусство кино. 1999. № 9, 10.
Норштейн Ю. О Пушкинском письме в «Зеркале» Тарковского//Киноведческие записки. 1999. № 42.
Орлов А. Лучшая в мире «Сказка сказок»: опыт импрессионистического анализа//Аниматограф и его анима: Психогенные аспекты экранных технологий. М., 1995.
Петрушевская Л. Режиссер Юрий Норштейн//Советский фильм. 1986. № 7.
Фрейлих С. Школа изящных искусств//Экран и сцена. 1991. 19 дек.
Тема № 188
Эфир 19.12.2002
Хронометраж 40:00