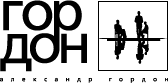gordon0030@yandex.ru
Нравы древней Руси
 30.01.2003
30.01.2003  51:34
51:34
Понятие «нравы» характеризует все те формы поведения людей, которые бытуют в данном обществе и могут быть подвергнуты нравственной оценке. Но с какой точки зрения? Как трансформировались взгляды на нравственное и безнравственное, правильное и неправильное, праведное и неправедное? Кто был носителем закона, власти, традиции, обычая? О том, можно ли осмысливать эпоху Ивана Грозного в рациональных исторических терминах, если сам он оценивал свои деяния в эсхатологических критериях веры, — историк Андрей Юрганов и филолог Андрей Каравашкин.
Участники:
Юрганов Андрей Львович — доктор исторических наук, профессор РГГУ
Каравашкин Андрей Витальевич — доктор филологических наук, профессор МПГУ
Обзор темы
Если XI век был веком подведения итогов тех весьма бурных процессов этнокультурного взаимодействия и синтеза, которые проходили
После крещения Руси князем Владимиром на всей территории государства развернулся процесс трансформации традиционной языческой культуры. Этот процесс затрагивал не только естественные центры христианизации — города, но и сельскую глубинку, о чем свидетельствует, прежде всего, археологические исследования, наблюдающие, например, трансформацию погребального обряда. Конечно, распространение этого обряда было значительно облегчено тем, что и для языческих славян и Руси характерны были более или менее очевидные элементы биритуализма, а традиционная «языческая» ориентировка покойника (в том числе на погребальном костре) головой на Запад совпадала с христианской. Обряд погребения в могиле распространился
Продолжающиеся процессы разрушения традиционного «племенного» быта, становления государства необходимо включали индивида в совершенно иные социальные связи. Проблема индивидуальной судьбы, в том числе загробной, становилась все более актуальной. Ответ на вопрос об этой судьбе давали князь и его дружина, епископ и христианство, а не «волхвы» и язычество. Примером может служить рассказ Повести Временных Лет о «мятежах» волхвов и испытание их «пророческого» дара воеводой Яном Вышатичем в Ростовской области и князем Глебом в Новгороде — волхвы не могут предсказать собственной смерти, что и демонстрируют восставшей толпе князь и воевода, убивая их. Недаром почитаемый язычниками Вещий Олег не мог предугадать своей судьбы.
В русском (и славянском) фольклоре мотивы ада и загробной жизни сильно эсхатологизированы: даже традиционный индоевропейский мотив переправы на тот свет связан с темой греха и добродетели, Страшного суда. «Языческие» персонажи, связанные с загробным миром и погребальным обрядом, постепенно «выродились» в сказочных монстров
Желая спасти душу, человек хотел получить ответы на вопросы, что есть правильное, а что неправильное, что правое, а что неправое, что праведное, а что неправедное. Принимая христианскую веру, вручая душу Господу Богу, человек нуждался в верном знании, кто является истинным носителем, прежде всего, закона Божьего, власти, и далее, традиции, обычая?
Из статьи А. В. Каравашкина «Самоопределение историка» («Интеллектуальный форум». 2001. № 6.)
Этноисторические процессы отражаются в явлениях и фактах различной природы, в том числе в обыденной жизни человека от рождения до смерти. Восприятие себя как элемента социального организма, стремление понять сущность этого организма, формирует ценностную ориентацию.
История человека протекает в биологическом, языковом, культурном взаимодействии с другими народами, в разные периоды времени более тесном или менее тесном.
Именно с этой точки зрения так интересен период от начала христианизации Руси. Так как тема трансформации обычаев, мироощущения человека сложна и обширна, мы хотим установить границы во времени. При этом царствование Ивана Грозного представляется неким завершающим этапом исторических ожиданий человека Древней Руси, моделью предреченного библией Страшного Суда. Русская средневековая культура представляет особый интерес. И нам хотелось бы получить характеристику русского миросозерцания «переходного» периода.
Но чужое сознание — это чужое сознание. Необходимы усилия к пониманию, определенная герменевтика самих исторических свидетельств, без которых невозможно исследование субъективного фактора в истории. Где проходит граница между фрагментами сознания, запечатленными в источнике, и представлениями самого интерпретатора?
А. Ф. Лосев был,
Нет ничего более обманчивого, чем точность, если речь идет о диалоге с чужим сознанием. «Территория» историка — всегда между двумя мифами. То, что дано в источнике, может быть недостаточным для воссоздания цельного образа эпохи, но это вовсе не означает научного тупика. «Объектом познания является сам исторический источник как реализованный продукт человеческой психики. Субъект прошлого и историк вступают в диалог, не обладая „единообразием“ психики, ибо контакт этот прежде всего языковой. Две субъективные и первичные стихии встречаются в объективности и материальной данности источника». (А. Л. Юрганов).
Историка интересует чужое сознание, чужая система ценностей, чужое миропонимание как сверхзадача и самоцель. Вместе с историками у нас есть возможность прикоснуться к этой тайне, о которой многие из нас и не подозревали. Автор источника и современный читатель думают и говорят на разных языках — разных языках культуры, понимаемых максимально широко. Ученый, отрицая априорные предпосылки и условные реконструкции прошлого, основанные на потребительском отношении к источнику, требует от герменевтики (науки, изучающей древние письменные источники) не только историзма, но и саморефлексии.
Здесь важен сам принцип: мы стремимся к адекватному, пусть и неосуществимому в полной мере, истолкованию текста в надежде увидеть лицо автора, понять ход его рассуждений, воссоздать его мифологию.
Даже изучив древнеславянский язык, мы будем говорить с человеком давних времен на разных языках, если не знаем законов корректного отражения фактов чужого сознания. Только специалист может перевести древний источник на метаязык современной науки. В свою очередь, перевод нуждается в комплексе технических приемов, в методе интерпретации, в орудии понимания, то есть в герменевтике. Иными словами, историк должен «отказаться» от самого себя: не вживаться в образы прошлого, не терять дистанции, не превращать научный текст в опыт художественного прочтения документов.
Не только историков и филологов, но и добросовестных дилетантов привлекает уникальность и неповторимость ситуации
Но как адекватно истолковать текст, чтобы увидеть лицо автора, понять ход его рассуждений, воссоздать его мифологию? Возможно ли это в полной мере?
Теоретическое вступление книги «Категории русской средневековой культуры», дает современному человеку и возможность отвлечься от собственной мифологии, и осознать пределы своего понимания.
Традиционный подход, согласно которому историк лишь задает вопросы, а источник послушно отвечает на них, уже не срабатывает. Текст должен предстать как непосредственное откровение; в нем важно все, в том числе и нюансы авторской интонации. То есть важно придерживаться принципа самодостаточности исторического источника.
С точки зрения автора «Категорий русской средневековой культуры», историк работает с внеположенными нашему сознанию мифами и судить об источнике можно только по тем законам, которые признавал над собой создатель этого источника. Эта позиция вступает в противоречие с концепцией «эпистемологической неуверенности» (позновательной неуверенности). Ученый стремится к последовательному отражению фактов чужого сознания, к их максимально корректному переводу на метаязык современной науки. Поэтому перевод нуждается в комплексе технических приемов, в методе интерпретации, в орудии понимания, то есть в герменевтике.
Иными словами, историк должен «отказаться» от самого себя: не вживаться в образы прошлого, не терять дистанции, не превращать научный текст в опыт художественного прочтения документов.
В изучении русской средневековой культуры важны не частные, пусть и очень существенные, вопросы, а принципы, определяющие уникальность, неповторимость ситуации
Книге А. Л. Юрганова «Категории русской средневековой культуры» присуще категориальное описание, в ней исследован сам механизм становления. Но для того, чтобы нечто менялось, необходимы инварианты, «топосы», наиболее устойчивые элементы, определяющие самоидентификацию явления. Историк намечает несколько взаимосвязанных магистральных путей: отношение к Богу и самой Божественной истине («вера» и «правда» русского cредневековья), господство и подчинение (власть и собственность в сознании
Например, определен смысл метаморфоз, которые претерпело в источниках слово «вера». Устанавливается его первоначальное значение. Это, для древнерусского человека, скорее, чистота вероисповедания: Божественная истина, представленная в догматах, обрядах, священном каноне.
До некоторой степени «вере» противостоит «правда» — высшее начало, Христос. Вспомним, как говорит об этом Иван Пересветов: «Истинная правда — Христос Бог наш <...> да оставил нам Еуангелие правду, любячи веру християнскую надо всеми верами, указал путь Царства Небеснаго во Еуангелии».
Мало того, «правда» и «вера» образуют некую иерархию, и одна из центральных проблем русского самосознания состоит в попытке выбрать, что же важнее. И все же публицистика XVI века пришла к органичному синтезу, единению этих категорий. Не случайно Пересветов мучительно переживает отсутствие истинной «веры» в царстве
В течение XVIII века происходит вытеснение средневекового понимания «веры»; этим словом стали описывать субъективное переживание личности (убежденность в существовании Бога, иных сверхъестественных сил и явлений). А дух русского средневековья был основан на примате трансцендентных реальностей. Идущее же ему на смену Новое время превращало эти реальности в субъективные идеи, а Бога — в абстрактное понятие. Последнее замечание чрезвычайно важно для истории культуры и общества: без уяснения того, чем была «вера» в сознании Нового времени, совершенно невозможно понять и русское Средневековье.
Не менее важной оказывается специфика русского средневекового отношения к власти. Юрганов доказывает, что нельзя толковать русские средневековые источники, оперируя категориями западноевропейского феодализма: «Главный признак этой системы (системы „пожалования“) заключается в том, что государственная власть сама структурирует общество „под службу“, а значит, в нем отсутствуют отношения „по горизонтали“, сословная корпоративность которых защищала бы от произвола монарха. Иными словами, в средневековой Руси нет ярко выраженной власти политической, существование которой обычно определяется сложным взаимодействием с обществом, имеющим неслужебную самоидентичность». Общество
Реконструкция этой мифологической модели во многом поясняет средневековое отношение к тому, что в наше время принято считать собственностью. До некоторой степени человек Московского царства сам находился в распоряжении государя, сам принадлежал царскому роду. Земли крупного землевладельца или обители, располагавшей огромными земельными фондами, легко могли быть царской властью переданы от одного владельца к другому. Значит, подданных московского государя нельзя считать полноценными собственниками. Собственность, подобно дорогому царскому подарку, может быть «пожалована» и по распоряжению того же государя отнята. Правовая защита владельца была полностью невозможна именно в силу того, что ни о каких договорных обязательствах в Московском царстве даже и не помышляли. По сравнению со средневековой Западной Европой здесь не было отношений вассала и сюзерена, а утверждались абсолютные полномочия единственного хозяина и распорядителя всего имевшегося в наличии имущества. Иного понимания трудно ждать от людей той эпохи, поскольку логика их мышления целиком подчинялась принятой тогда концепции господства и подчинения.
Центральной антропологической проблемой Московской Руси оказалось соотношение «свободы» и Божьего промысла, то есть индетерминизма и детерминизма. В этом контексте рассматривается и
Возможно, спорная, новая трактовка Юргановым опричнины как своеобразной мистерии веры — новое слово в медиевистике. Человек русского средневековья верил в «душеспасительную» роль царского самодержавия, основываясь на своих, свойственных людям его времени, представлениях о пространстве и времени. Эсхатология, учение о конечных судьбах мира и человечества, — вот что по праву венчает категориальное описание русской средневековой культуры. Ожидания и чаяния людей Московского царства, идеалы и утопические идеи были напрямую сопряжены с предощущением финального момента мировой истории, Конца Света.
Исследуя эсхатологические воззрения Московской Руси, А. Л. Юрганов предлагает оригинальную систему доказательств и приводит подчас неожиданные аргументы. Историософию Московской Руси он рассматривает как всеобъемлющую доктрину, которая раскрывается в разных сферах духовной культуры. Символика апокалипсиса пронизывает не только многочисленные литературные памятники, произведения изобразительного искусства, но и государственную эмблематику, например, государственные печати XVI века.
Самым неожиданным сюжетом в монографии оказывается интерпретация опричных казней и символики опричного двора Ивана IV. Впервые в исторической науке на обширном материале предпринята попытка раскрыть духовный смысл загадочной акции Грозного.
А. Л. Юрганов рассматривает опричнину как эсхатологическую коллизию, как утверждение душеспасительной миссии царя. То, что, с точки зрения несведущего человека, да и некоторых историков, не имело никакого оправдания и даже разумного объяснения, имело для сознания Московской Руси смысл, ибо Опричнина представала воплощенной мифологической моделью Страшного суда.
Заявления Ивана Грозного накануне введения опричнины были выражением вполне определившихся убеждений. В одном из посланий бежавшему Курбскому Иван Грозный пишет: «И аще праведен и благочестив, про что не изволил еси от мене, строптиваго владыки, страдати и венец жизни наследити». В противоположность Курбскому, княжеский слуга Василий Шибанов, оказавшийся в руках московского государя, не отрекся от своего господина, но сознательно принес себя в жертву. Погибая таким образом на плахе, «холоп» спасал свою душу, чего не захотел понять Курбский. Поступок же Курбского рассматривался как измена, равнозначная предательству веры, отречению от Бога: «Ты же убо сего благочестию не поревновал еси: единого ради малаго слова гневна не токмо едину душу, но и своих прародителей души погубил еси...»
Идея опричнины была своего рода попыткой установить справедливые отношения царя и его подданных, но только в том виде, как это представлял сам Грозный. Страдания плоти и физическая гибель занимают подчиненное положение в этой системе ценностей. Главное — посмертная жизнь души, ожидающей соединения с преображенным телом для возможного — в случае добровольного и праведного мученичества — вечного блаженства: «Се бо есть воля Господня — еже, благое творяще, пострадати».
Неправедная кончина, когда холоп пытается обмануть государя и, прибегая к лукавству, хочет избежать наказания, рассматривается как нарушение присяги (целования креста). Царское поучение, даже в форме смертной казни, не может погубить душу холопа, если последний сам не нанес урона своей внутренней, нравственной чистоте. Словно Господь, царь судит подданных («рабов»), отделяет тех, кто стоит по правую руку («овец»), от тех, кто стоит по левую («козлищ»), может отправить преступника на самую страшную пытку или казнь, которые становятся зримыми символами грядущего отмщения.
Лучше пострадать здесь на земле, чем гореть в «геенне огненной». Если смерть как таковая не является злом, то царь может «страхом спасати». В данном случае страх Божий — напоминание о посмертных муках и одновременно спасительное наказание муками при жизни. Спасительно оно только потому, что облегчает загробную участь души. Ее небесный заступник архангел Михаил очищает человека от скверны и выступает грозным карающим судьей. Интересно, что именно Небесный покровитель человечества и воин архангел Михаил служил особым покровителем для единственного земного судьи, московского Государя. Поэтому царя Ивана и благодарили за пролитие крови и мучительство так, как если бы он врачевал духовные недуги. Иван Грозный видел главную свою функцию в наказании зла «в последние дни» перед Страшным судом. Мы никогда не узнаем, в какой момент (хронологически) и почему царь решил начать опричнину. Одно можно сказать достаточно определенно: пассивно ждать он не мог в силу своей особой ответственности.
Требования смирения и жертвенности, степень послушания земной власти были, согласно установленным нормам Московского царства, слишком велики. Но еще более суровыми были требования, предъявляемые самому царю. От государя ждали достойного суда, такой справедливости, на которую властитель в силу своей греховной природы едва ли был способен. Но, если царский суд оказывался неправедным, он, государь, должен был отвечать за себя и за душу каждого погубленного холопа.
Мысль о загробной участи неправедного судьи преследовала царя, она руководила и теми, кто определял цикл назидательных росписей царской усыпальницы в Архангельском соборе (Немилостивая смерть богача), и теми, кто создавал версию чина венчания на царство в 1547 году. В редакции этого важного государственного акта в поучении митрополита воспроизводилась сцена Страшного суда, на котором царь предстоит Христу. Здесь земной властитель оказывается равным среди равных и, одновременно, несущим совершенно особую персональную ответственность.
Таким образом, тема Страшного суда в эпоху Грозного была напрямую связана с идеей царственности. Апокалиптические ожидания постоянно напоминали о себе и были «атмосферой» времени, определяя весь нравственный и культурный облик эпохи. Таково мироощущение, находящееся у истоков опричнины.
«А не оскорбляет ли автор нашу мораль, приписывая мрачному тирану некую „философию“, служащую оправданием насилия? Не является ли столь широкий герменевтический подход средством переоценки сложившихся представлений о пределах власти, своеобразной апологией опричнины?». Нет, автор предлагает нам принять факты чужого сознания как нечто объективное и самоценное, и это будет способствовать нашей самоидентификации, развитию нашего собственного мировидения. А наше знание и о прошлом и о себе станет многогранным.
Вызывающий ужас даже у современного человека, Иван Грозный был одним из образованнейших людей своего времени и серьезным богословом. И своим деяниям в контексте христианских ожиданий скорого Конца Света старался давать богословское обоснование. Греческие эсхатологические сочинения послужили источником вдохновения и руководством для устройства опричнины. Это, прежде всего, «Слово о царствии язык в последния времена и сказание от первого человека до скончания», приписываемое епископу Мефодию Патарскому и датируемое
«Откровение» Мефодия Патарского со времен
Царь сознательно, по мнению А. Л. Юрганова, возложил на себя историческую миссию «последнего благочестивого царя», одного из главных действующих лиц «Откровения» Мефолия Патарского. Опричники, ведущие полумонашеский образ жизни, воплощали собой тех избранных из «Слова о царствии...», судить которых не мог никакой человеческий суд, «оприч» царского.
Сам опричный террор перекликается по свои масштабам бессмысленного кровопролития и конкретным формам с апокалиптическими видениями. После падения Второго Рима — Константинополя, место действия событий было естественным для древнерусского человека образом перенесено в последнее православное царство, Московскую Русь, считавшуюся последним, Третьим Римом, «а четвертому Риму не быть».
Таким образом, по мнению Юрганова, древнерусское неограниченное самодержавие получило внятную религиозную санкцию. Опричники в Александровском дворце носили монашеское одеяние, называли своего игумена не иначе, как брат, соблюдали монашеский устав — с одним немаловажным усовершествованием. По воспоминанию
Хитроумен, изощрен описанный в «Откровении» Антихрист, прихода которого ожидали: «кроток, смирен, богобоязнен и нищелюбив, любящий правду и ненавидящий мзду и идолослужение». Все перечисленные качества не гарантировали, что носитель их не сатанинского рода. Это еще более отторгало от человека надежду на самоспасение, передавая эту миссию более сильному, близкому к трону Господа, тому единственному, самодержцу всей Руси. И политика для людей того времени была в осуществлении христианских целей и задач, то есть сферы политическая и религиозная не различались.
Много из опричнины по нашим временам выглядит как издевательство над религией: демонстративные убийства священнослужителей, разграбление церквей, чередование оргий с молитвами и постами. Возможно, дело и в больном рассудке царя, но в ритуальных ужасах участвовало такое множество нормальных по меркам того времени людей. Юрганов приводит нас к парадоксальному выводу: поведение Ивана Грозного не воспринималось его современниками как кощунство или вызов общепринятым нормам.
Заметим, что внутри страны царь не сталкивался с
По мнению самого царя Ивана IV, зафиксированному в ряде источников, не было такого преступления, которое нельзя было оправдать в рамках христианской идеологии того времени. Рассматривая те события, можно предположить, что на христианские воззрения XVI века продолжали оказывать влияние и фарисейство, и древнеримский культ императора, и даже первобытная магия, ведь в русской средневековой культуре любой сакральный знак (буква или жест) принимался безусловно, ибо сакральное было проникнуто Духом Божьим и доносилось до всех через освященных от Бога людей. Таким образом, некоторые люди обретали способность освятить именем основателя учения нарушение любого его завета.
Мы рассмотрели только одну, наиболее непостижимую для современного человека, из сторон русского средневековья. Но среди апокалиптического ужаса опричнины заслуживают особого внимания проблески живого ума и движения души, которые преодолевали «естественные» для того времени формы мировосприятия. Тем ценнее сведения о боярском сыне Матвее Башкине, порвавшем кабальные грамоты и отпустившем своих холопов на свободу, потому, что Христос всех называл своими братьями, о другом еретике — Феодосии Косом, поразительном мыслителе, из беглых холопов, отвергающем неравенство между людьми, как социальное, так и национальное. Феодосий провозгласил источником спасения «разум духовный», побуждающий человека «делать правду»!
Конец Света не наступал, царь разочаровался в опричнине, а вечный Опричный дворец был сожжен татарами вместе с Москвой. После отмены опричнины и казни почти всех ее активных деятелей, он продолжил зверства. Религиозный, как и все люди средневековья, он долго спасал себя, все время своего царствования. Для этого, по мнению Юрганова, и составлялся Синодик опальных, ведущий счет жертвам, убитым по указу царя, для обязательного поминовения в монастырях и храмах. По тогдашним представлениям (как ни странно, магическим) грехи православного христианина, умершего без соблюдения соответствующих обрядов, перекладываются на виновника такой кончины. Никого нельзя было упустить при записи в поминание!
Словарь
Нравы — обычаи, имеющие нравственное значение. Понятие «нравы» характеризует все те формы поведения людей, которые бытуют в данном обществе и могут быть подвергнуты нравственной оценке.
Обычай — стереотипный способ поведения, который воспроизводится в определенном обществе или социальной группе и является привычным для их членов. Обычай — одна из наиболее распространенных форм права на ранних стадиях его развития. Санкционированный государством или судом, обычай становится источником права (правовой обычай).
Традиция — элементы социального или культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенном обществе или социальной группе в течение длительного времени. В качестве традиции выступают определенные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды. Традиции действуют в любом обществе и во всех областях общественной жизни.
Род — коллектив кровных родственников, включающий несколько семей.
Племя — несколько родов, объединенных брачными связями.
Оглашенные — готовящиеся принять крещение.
Библиография
Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973.
Гадамер
Гуревич А. Я. Территория историка//Одиссей: Человек в истории: Ремесло историка на исходе XX века. М., 1996.
Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков
Иванов В. В. Семиотика культуры среди наук о человеке в XXI столетии. М., 2000.
Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
Камчатнов А. М. Подтекст: термин и понятие//Филологические науки. 1988. № 3.
Каравашкин А. В. Харизма царя: Средневековая концепция власти как предмет семиотической интерпретации.//Одиссей. М., 2000.
Каравашкин А. В. Самоопределение историка//Интеллектуальный форум. 2001. № 6.
Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996.
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа»/Философское наследие. М., 2001. Т.130.
Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Методология истории. М., 1997.
Портнов А. Н. Язык и сознание: основные парадигмы исследования проблемы в философии
Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии. М., 2001.
Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
Тема № 207
Эфир 30.01.2003
Хронометраж 51:34