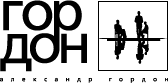gordon0030@yandex.ru
Мифология повседневности
 12.03.2003
12.03.2003  40:03
40:03
 Стенограмма эфира
Стенограмма эфираКак соотносится внешне безобидная детская игра в жмурки с похоронным и свадебным обрядом? Что означает чихание с точки зрения мифологической традиции? В чем заключался метафизический смысл стояния в советской очереди? О том, что приходит на смену старым формам фольклора — былинам, обрядам, песням, — филологи Александр Панченко и Константин Богданов (Германия).
Участники:
Константин Богданов — доктор филологических наук, профессор университета Констанца (Германия)
Александр Панченко — кандидат филологических наук
Обзор темы
Большинство фольклорных жанров, которые еще привычно связываются с народным творчеством, постепенно уходят из жизни не только современного горожанина, но и деревенского жителя. Изучение таких жанров — будь то былина сказка или песня — сегодня в значительной степени напоминает работу археолога или палеоантрополога, прибегающих к ретроспективным методам анализа и гипотетическим объяснительным моделям. Но что это значит? Можно ли сказать, что, лишившись традиционной фольклорной культуры, наш современник расстался с тем, что некогда придавало смысл самой культуре? Что можно назвать фольклором сегодня? Социальная повседневность демонстрирует актуальность в культурном обиходе вещей и явлений, идеологическое функционирование которых в большей или меньшей степени безразлично к их «авторскому» происхождению. Это ценности не индивидуализирующего, но коллективизирующего свойства: они принадлежат всем и вместе с тем — никому в отдельности. Фольклорный «спрос» на коллективизирующие ценности культуры не означает, конечно, их коллективного же «предложения», но означает, что первое здесь важнее второго: общее важнее частного, закономерное важнее случайного.
Изучение фольклора принципиально зависит от эвристического значения культурной традиции. Фольклор является фольклором в той степени, в какой он позволяет указать на «традиционность» соответствующего ему социокультурного дискурса. Данный дискурс наделен ценностью не сиюминутного, но
В качестве концептуального понятия, позволяющего иметь в виду многообразие возможных описаний «фольклорной действительности», предлагается ввести понятие фольклорных маргиналий. Это тексты, актуально существующие на границе различных способов их аналитической дескрипции. Здесь будут проанализированы мифологические и социальные коннотации четырех таких маргиналий — игра в жмурки, чихание, курение, и советская очередь.
1. Игра в жмурки. В современном быту игра в жмурки воспринимается как исключительно детская игра. Вместе с тем для этнографа и фольклориста за детским обиходом жмурок очевидно просматривается контекст «взрослой традиции» — практика образного поведения и риторическая настоятельность соответствующего образа, этот этикет обусловливающего. Образный смысл игры в жмурки тематизируется как акциональная амплификация сюжета: слепой ищет зрячего — мертвый ищет живого. Соотнесение слепоты и смерти объясняется контекстами психофизического опыта зрения и социокультурного различения видимого и невидимого, явленного и скрытого, социального и несоциального. В ряду слов, обозначающих игру в жмурки, русское слово позволяет судить о соотнесении его значения со смертью также на материале сравнительного
Изучение текстов, обнаруживающих семантические и топические параллели с сюжетом игры в жмурки, убеждает в том, что соотнесение слепоты и смерти выполняет в рамках нарративизации этого соотнесения важную социопсихологическую функцию. Репрезентируя иное, слепота одновременно искушает и страшит. Иное опаснее, чем привычное. Опасность, исходящая от слепоты, чревата самим напоминанием об ином — о том, что отменяет надежность повседневного опыта и привычного обихода. Опасен слепой знахарь, слепой колдун. Встреча со слепцом — дурная примета. В контексте опасности, исходящей от слепоты, понятнее становится мотив, встречающийся уже в библейской и мифологической традиции гомеровских поэм — мотив обмана слепых. С идеологической точки зрения мотив обмана слепых и, соответственно, обмана смерти сообразуется с социализацией власти в ритуалах жизненного цикла — в ритуалах гадания, похорон.
Страх перед смертью и миом потустороннего утверждается и феноменологически преодолевается игрой в жмурки в единстве тематизирующих ее акциональных и нарративных практик. При всей необратимости смерти, как она рисуется в русском фольклоре, с ней можно теми или иными способами бороться, ей можно оказать физическое сопротивление или перехитрить.
Отсюда инверсия обряда похорон в народной культуре, где покойник становится объектом непристойных шуток. Организуются травестийные похороны мнимого покойника. Напрашивающаяся в этих случаях аналогия с игрой в жмурки поддерживается любопытным обычаем, где инсценирование похоронного обряда и игра в жмурки дополняют друг друга непосредственным образом. Таковы так называемые «похороны таракана» — обычай, который вплоть до
Семантическое соположение похоронной и игровой символики неслучайно. Покойник вызывает страх, но потому же оказывает в центре социального «бесстрашия».
Замечательным примером, равно относящимся к стратегии вышучивания смерти и к типологическим параллелям игры в жмурки, является детская «игра в покойники». По описанию одной из таких игр (на материале культуры коми) несколько девочек и мальчиков семи — одиннадцати лет собирались поздней весной или ранним летом на лугу вблизи села. По жребию или считалке определяли водящего, которому предстояло выполнить роль умершего. Мнимый покойник ложился на землю, а все остальные рвали траву и причитали: «Почему ты нас оставил?» Когда трава полностью покрывала «покойника», произносилось поминальное слово, а затем играющие, как бы забыв о похоронах, переходили к разговорам на интересующие их темы. Тем временем покойник резко и неожиданно поднимался и бросался в погоню за разбегавшимися игроками. Тот, кого он дотрагивался рукой, становился водящим, и игра начиналась вновь.
Подобно игре в покойника, игра в жмурки профанирует обрядовую практику взрослых, в частности обряд инициации. При инициации ослепление предваряет новый или по крайней мере подытоживает прежний статус посвящаемого. Отсутствие цвета — слепота дает параллель к
Особого разговора в том же инициационном контексте заслуживает свадебная обрядность. Свадебные обряды обнаруживают не только семантическую актуальность общих с игрой в жмурки мотивов смерти/жизни, угадывания, узнавания, наречения именем, но и использует сюжетные элементы игры в жмурки в структуре своего собственного сюжетосложения. Таково прежде всего инсценирование «узнавания» невестой жениха или наоборот женихом невесты. (По регламенту «Домостроя» невеста должны была скрываться от глаз жениха вплоть до алтаря.) В Оренбургской губернии жених должен был поймать и узнать девушку, при этом глаза у него завязаны или зажмурены.
Предсвадебная и вообще эротическая семантика «слепого» узнавания, конечно, достаточно прозрачна, чтобы сводить ее исключительно к обрядовой практике. Но интересно, что именно игра в жмурки выражает в данном случае ритуальную адаптацию психологических стереотипов эротического и сексуального поведения. Эротический характер игры в жмурки подчеркивался авторами уже первых ее упоминаний в европейской литературе. Обычно в нее играли юноши и девушки, при этом пойманная «слепцом» девушка должна была поцеловать того, кто ее поймал.
В сказке герой ищет и «вслепую» узнает исчезнувшую или похищенную невесту. Елена Премудрая хочет выйти замуж только за того, кто сумеет от нее спрятаться, солдата с завязанными глазами вводят в графский дом на свидание с женщиной.
В общем виде ролевая обратимость игры в жмурки напоминает об инверсиях ритуального и праздничного характера, предлагающих необходимую альтернативу нормативам идеологической повседневности. В данном случае это означает, что слепота не просто противостоит зрячести, а смерть — жизни, но и то, что ни один член этой оппозиции не представим без другого и вне самого этого противопоставления, а социальное разведение семантически производного ряда «жизнь — смерть» осложняется их взаимосоответствующей дополнительностью к некоему общему онтологическому основанию.
С акциональной стороны касание, удар, толчок, почти всегда выступающие элементами игры в жмурки по ходу ее сюжета, коррелируют общей динамике сюжетного действия, ориентированного на «самое себя», на ограничиваемое им пространство и в конце концов на взаимообратимость самой игры, которая как бы уже изначально не может быть завершена
Чихание. Чихание является одной из таких мелочей, восприятие которых сложно согласуется с их реальными психосоматическими последствиями, но с замечательной устойчивостью сопутствующей им идеологической традицией. С одной стороны, чихание — это то, что происходит постоянно и характеризуется очевидной феноменологической повторяемостью, с другой стороны, оно происходит вдруг, внезапно, и не поддается однозначной и легко формулируемой этиологии. Однозначно ответить на вопрос, почему человек чихает, проблематично даже с медицинской точки зрения. Обычно чихающему желают здоровья. Мишель Монтень полагал, что обычай желать здоровья чихающим объясняется тем, что в отличие от других «ветров», испускаемых человеком, чихание не имеет определенных физиологических коннотатов: «и так как оно исходит из головы и ничем не запятнано, мы оказываем ему столь почетную встречу».
В библейских упоминаниях чихания главным является то, что это обыкновенное явление, предваряющие экстраординарное событие. «И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою и помолился за него. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над ним, и согрелось тело ребенка. И встал и прошел по горнице вперед; потом опять поднялся, простерся над ним. И чихнул ребенок семь раз, и открыл ребенок глаза свои».
Событие это является результатом божественного промысла и божественного творения. Но коль скоро сам этот промысел остается для человека неисповедимым, чихание знаменует то, что человеческим опытом не объясняется и не определяется. Чихание знаменует то, что ведомо Богу, а не человеку.
Бог и божественное также соотнесено с воздухом и дыханием. В акте чихания дыхание лишено физиологически объяснимого утилитаризма. Чихающий дышит, но в данном случае вдох и выдох избыточны к обычному дыханию, символизируя, скорее, дыхание вообще — дыхание, свидетельствующее о жизни и Боге. В одном из иудейских преданий чихание так и объясняется — с акцентном на следующий отсюда возможный вывод: «вдохнув» жизнь в человека, Бог «выдыхает» ее в человеческом чихании. «Раввины объясняли, что когда наш праотец Адам за непослушание сделался смертным, то по определению Божию, потомки его раз в жизни чихали, а именно, умирая. И это происходило до Иакова, который умолил господа о прощении, и он, чихнув, остался жив. С тех пор, однако, не переставали молиться о здравии чихающих и чихание служило знаком здоровья — знаком добрым».
В контексте выражения «не верить ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай» вера в чихание лексикологически уравнена с верой в сны и в «птичий грай». Опираясь на примеры Цицерона и Елигия, можно утверждать, что исторически равенство это воспринималось как вполне естественное. Снотолкование широко было распространено в Риме, как и гадания по птицам. В указанном ряду вера в чихание в общем и целом расценивается как вера в случай. Вера во встречу, сны или «птичий грай» также инициируется семантикой прогностической функцией случайности.
Психологически чихание предрасполагает к тому, чтобы видеть в нем событие, открывающее человека вовне — событие определенной психосоматической трансценденции, актуально соотносящее мир внутренний и внешний, свое и чужое. В ситуации, где внешний мир отождествляется с позитивными ценностями, инжектирование «внутреннего» «внешним» будет восприниматься иначе, чем в ситуации, когда внешнее воспринимается однозначно негативнее внутреннего. Применительно к чиханию оценка подобных ситуаций будет варьироваться — сам акт чихания может восприниматься либо как экспансия внутреннего во внешнее, либо наоборот — как экспансия внешнего во внутреннее. Эвристический момент выражаемого чиханием взаимодействия заключается по меньшей мере в указании на само это взаимодействие. При этом инроективно совмещая функции входа и выхода, принятия и выброса, процесс чихания оказывается сопоставимым с процессом органо- и космогенеза. По цыганскому поверью, от чихания черта родился ветер. Среди русских поговорок есть такая: «Сатана чихнул — монах родился».
Если Бог и духи, на которые указывает чихание, рисуются в данной ситуации как доброжелательные, то связываемый с чиханием прогноз также будет восприниматься оптимистично и наоборот. Пример из «Гаргантюа и Пантагрюэля»: «Чох направо показывает, что можно смело и уверенно приступать к выполнению своего решения и что дело с самого начала до конца потечет успешно; чох налево означает обратное».
Чихание как ничтожное события может быть предзнаменованием событий важнейших, что символизирует непредсказуемость и неизведанность воли Божьей. Отсюда такое преувеличенное на первый взгляд отношение к чиханию чеховского чиновника Червякова, который чихнул в затылок к генералу — чихание в конечном счете привело к его смерти.
В ситуации идеологически предопределяемого, идеологически предсказуемого поведения чихание демонстрирует, таким образом, очевидные выгоды или невыгоды связанных с ним
Курение. Основным аргументом в споре, которые ведутся сегодня вокруг потребления и производства табака являются доводы врачей: медицинская статистика более или менее единодушно свидетельствует о том, что курение наносит или способно нанести вред и самому курильщику и его окружающим, и даже их потомству. Однако впервые европейцы узнали о курении как о лечебном средстве. Известные у индейцев способы такого употребления табака с помощью трубок и с виде сигар, жевание, нюхание — описываются европейским путешественниками и их комментаторами как лечебное и профилактическое средство против расстройства желудка, астмы, катаров, змеиных укусов, легочных заболеваний, головной боли, опухолей, открытых ран, ожогов. Одной из распространенных точек зрения тогда была, что курение помогает против сифилиса. При общем согласии о целебных свойствах табака спорили только о способе его употребления и даже о том, каким должен быть сам табак — свежим или высушенным, холодным или горячим, должен ли он употребляться в чистом или смешанном виде, в виде листьев или порошка, нужно ли его курить, нюхать, делать его с помощью ингаляций или пить как настой.
Надежды на целебную эффективность табака особенно возрастают во время вспышек эпидемий. Судя по письменным и археологическим материалам, курение является одной из наиболее общих предохранительных мер во время лондонской чумы 1614 года. В некоторых случаях курение даже вменялось гражданам в обязанность.
Но уже тогда же в начале 17 века появились сомнения в целительной силе табака и первые высказывания относительно его вреда, наносимого им организму. Прежде всего популярной стала точка зрения в соответствии с которой курение табака ослабляет мужскую силу и ведет к импотенции. Это мнение начинают разделять не только врачи, но и католические священники. Последние извлекают из этого убеждения даже некоторую выгоду и оправдывают курение как ограду собственного целомудрия.
Но для чего же люди
Для пробующего курить ребенка курение — это прежде всего признак взрослого поведения и вообще взрослости. Примеры Тома Сойера и Геккельбери Финна здесь вполне иллюстративны. Научение курению часто описывается как событие определенного ритуала, инициации, удостоверяющей самому ребенку и его окружению его социальную дееспособность, как возрастную так и половую. Лев Толстой видел в этом обстоятельстве даже дополнительный аргумент против курения. Задаваясь вопросом «Когда начинают курить мальчики?», Толстой отвечал на него так: «Почти всегда тогда же, когда они теряют детскую невинность».
С курением связаны определенные приметы и гадания. Например, нужно внимательно следить за тем, в какой момент пепел упадет. Если он падает в тот момент, когда гадающий затягивается, желание сбудется, если в тот момент, когда сигарета находится в руке, то оно не сбудется. Если во время курения сигарета погасла раньше времени, значит, о курильщике
Психоаналитики описывают курение в связи с сосанием через понятие оральности. Речь идет либо об оральном выражении сексуального или агрессивного влечения, либо о воссоздании в чувствах или фантазиях состояния младенческого опыта взаимодействия с материнской грудью. Важно при этом также приписывание сексуальных коннотаций самому огню и дыму, как показал Г. Башляр в книге «Психоанализ огня».
Существует фольклор о разных способах курения. Так, рассказывается о шпионах, которых поймали потому, что они курили
Курение оценивается как акт социальной и экзистенциальной общности, притом такой общности, которая избегает слов прикуривание, совместное курение делает молчание не натянутым, а естественным. Это смысл, который не нуждается в словах и понятен без слов. Будучи включенным в коммуникативный акт, курение выступает в роли авербального действия, способного замещать вербальный стимул и вербальную реакцию. Курение не терпит пустых разговоров. Это серьезное дело, нечто сродни мыслительному акту, обдумыванию
Этикет курения предполагает как комплиментарные, так и инвективные значения — от умения протянуть спичку до демонстративного выдыхания дыма в лицо собеседнику.
Табак проникает в Россию в конце 15 века. Происходит это в значительной мере благодаря англичанам, получившим при Иване Грозном монопольное право на торговлю в России. Экзотическая новинка привлекает внимание и становится популярной, но уже вскоре вызывает противодействие властей и церкви.
Причины последовавшего далее запрета на табак в России объясняются несколькими основаниями.
Политика Петра Первого явилась важнейшим фактором в распространении табака в России. Для Петра и его окружения вопрос о табаке ставился как вопрос не экономического, а политического ряда — символ новизны, реформ идеологического обновления. Постепенно официальная церковь смирилась с курением и только старообрядцы оставались к нему непримиримы.
Защитники курения сегодня видят в нем реализацию принципа экзистенциальной свободы, в частности, свободы распоряжаться собственным здоровьем.
Советская очередь. Феномен очереди — устойчивый и привычный атрибут советской истории и советского быта. С идеологической точки зрения — это образ «временных» трудностей, переживаемых страной. С бытовой и психологической — повседневная и рутинная неизбежность, трата времени и повод для раздражения.
Перед исследователем здесь естественно встает проблема: в какой степени инновативность, выражающая социальные перемены в бывшем СССР, сообразуется с особенностями
Очереди окружали советского человека всюду и везде. О степени актуальности этого феномена свидетельствует уже тот факт, что среди детских игр 1970–80 годов была засвидетельствована и игра в очередь.
Повседневный быт — это очереди за продовольствием, одеждой, хозтоварами, различного рода дефицитом — женскими сапогами, постельным бельем, детскими колготками, зубной пастой, туалетной бумагой, новогодними игрушками и т. д. и т. п.
Характерной приметой очередей служил номер, который получал и которого упорно придерживался очередник. Особый подвид «административных» очередей представляли очереди за квартирами, машинами, мебелью, бытовой техникой, туристическим путевками и т. д. Такие очереди длились месяцами и даже десятилетиями, порождая и поддерживая специфический феномен, который — в совокупности со всеми невидимыми очередями — можно назвать невидимой очередью. Психологической реальностью таких социальных ожиданий была ориентированность советского человека не на настоящее, а на будущее.
Эта психологическая ориентация советских людей на будущее — необходимый компонент идеологии, постоянно утверждающий себя в качестве футурологии. Картина будущего при всех оговорках рисуется заранее известной предсказуемостью: будущее наступает в соответствии с предписанным сценарием, все что нужно для его приближения — это умение ждать, сила терпения.
Для очередника, по словам Михаила Эпштейна, «интерес будущего все время прибывает, так что общество, живущее будущим, в большей степени, чем настоящим, моделируется очередью. <...> Важно и то, что в очереди каждый занимает не только физическое, но и как бы служебное место, пребывает в должности инспектора и контролера, чем решается проблема временной безработицы в свободное от работы время. <...> От бдительности каждого зависит порядок во всей очереди, ибо цепь, порванная в одном звене, — уже не может соединять людей и вести к одной цели. Стояние в очереди — еще и надзор над очередью, деятельность учета и контроля, которая как известно обеспечивает диктатуру большинства над меньшинством».
В ряду символических аналогий, традиционно утверждаемых для привычных советскому человеку бытовых очередей, особое место занимает неизменная достопримечательность советской столицы — очередь к ленинскому Мавзолею. В идеологической иерархии советских очередей, это, конечно, самая главная очередь. Очередь к Мавзолею — апофеоз очереди вообще, символ, которому сулится долгая, если не вечная, жизнь.
Прафеномен очереди к Мавзолею — это бесконечная очередь на похоронах Ленина за его гробом.
Фольклорная традиция, связанная с образом Ленина, тоже отмечала очередь в качестве основного символа. Существует рассказ, как Ленин вошел в парикмахерскую побриться. Все его, естественно, узнали и стали уступать ему место. Но Ильич встал в очередь «Мы должны, — сказал он, — соблюдать закон и порядок. Законы ведь сами создаем». Таким образом, очередь — это проекция законов, которые созданы самим вождем, и им нельзя не подчиняться, поскольку им подчиняется сам Ленин.
Очередь является очевидным примером ситуации, объединяющей разных людей рамками единой структуры и однотипного целеполагания. Требование справедливости возникает в этом случае как требование установления упорядоченных отношений между людьми, разъединенными сферой социального производства, но объединенными в сфере социального потребления. Порядок такого отношения представляется некоторым антропологам аналогичным порядком ритуального объединения людей в архаическом обществе. Таким, например, предстает антропологический анализ потребления как ритуальной практики жертвоприношения в работах Даниэля Миллера: участие в «шоппинге» изображается по аналогии с участием в ритуале. Зарабатывание денег и их трата в магазинах отсылает к ценностям трансцендентального порядка и ритуальной телеологии, а конкретно — к коллективной трапезе во время жертвоприношения. Применительно к социалистическому строю и коммунистической идеологии те же ритуальные аналогии несомненно приложимы к феномену очереди.
Очередь рекультивирует архаические ценности такого порядка социального потребления, который связывает «трансцендентализм» группы с «общим правилом» справедливости (равенство неравных людей с определенной точки зрения).
Не случайно, что общим знаменателем контекстуального сопровождения возникающих в очереди разговоров в той или иной степени всегда является тема справедливости и легитимности тех, кто данную очередь составляет. С фольклористической точки зрения — это несомненно морфологический инвариант характеризующих ее текстов. Обсуждение очереди в ситуации самой очереди всегда свидетельствует о правилах соотносимого с ней справедливого порядка распределения/потребления. Привычность ситуации здесь служит этике, варьирующей от вербальных формул
Исключения из порядка общей справедливости варьировались в течение исторического развития общества. Реестр лиц и групп населения, наделенных формальным правом быть пропущенными без очереди, появился в первые годы советской власти и детализировался на протяжении всей истории Советского Союза. Герои Советского Союза и Социалистического Труда, депутаты Верховного Совета, ветераны гражданской и Великой Отечественной войны, беременные женщины и
Лидия Гинзбург, описывая блокадные очереди писала: «Очередь — принудительное соединение людей друг против друга, раздраженных и в тоже время сосредоточенных на общем, едином круге интересов и целей. Отсюда эта смесь враждебности, соперничества и чувства коллектива, ежеминутной готовности сомкнуть ряды против врага — правонарушителя. Разговоры развязаны здесь общей праздностью и одновременно связаны определенностью содержания, прикреплены к делу, которым занимается очередь».
Библиография
Богданов К. А. Курение как фольклор/Мифология и повседневность. СПб., 1999. Вып. 2
Богданов К. А. Игра в жмурки: Контексты традиции//Русский фольклор. СПб., 2000. № XXX
Богданов К. А. Советская очередь: социология и фольклор/Символы, образы и стереотипы современной культуры. СПб., 2000
Богданов К. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб, 2001
Вайль П., Генис А.
Гинзбург Л. Я. Записки блокадного человека/Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. Л., 1989
Капица О. И. Детский фольклор: песни, потешки, дразнилки, сказки, игры. Л., 1928
Кон И. С. Ребенок и общество:
Морозов И. А. Из рязанского этнодиалектного словаря: «Похороны таракана»//Живая старина. 1996. № 4
Покровский Е. А. Детские игры, преимущественно русские. СПб., 1994
Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. М., 1963
Пропп В. Я. Исторически корни волшебной сказки. Л., 1986
Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. СПб. 1994
Тейлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989
Топорков А. Л. Будьте здоровы!//Русская речь. 1990 № 5
Эпштейн М. Бог деталей. Эссеистика 1977–1988. М., 1998
Goodin R. E. No smoking: The Ethical Issues. Chicago, 1989
Goodman J. Tobacco in history. The cultures of dependence. L.; N.Y., 1995
Miller D. A. Theory of shopping. Oxford, 1997
Тема № 228
Эфир 12.03.2003
Хронометраж 40:03