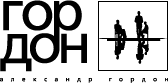| |
 Стенограмма эфира Стенограмма эфира
Написав одну из первых своих пьес, Михаил Булгаков записал в дневнике: «Когда я перечитал ее у себя в нетопленой комнате, ночью, я, стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки... Я начал драть рукопись, но остановился, потому что вдруг сообразил, что написанное нельзя уничтожить». Об иррациональном в творчестве Михаила Булгакова — филологи Мариетта Чудакова и Владимир Немцев.
Участники:
Мариетта Омаровна Чудакова — доктор филологических наук
Владимир Иванович Немцев — доктор филологических наук (Самара)
Обзор темы
После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет. Сочинить «коммунистическую пьесу»... Этого совета я не послушался.
— Из письма Правительству СССР от 28 марта 1930 г.
Из Литературного энциклопедического словаря. Михаил Булгаков (1891–1940) — «русский советский писатель», автор романа «Белая гвардия» (1925–7), по которому затем была поставлена пьеса «Дни Турбиных» (пост. 1926), «Театрального романа» (незаконч., 1937, опубл. 1965!), «Мастера и Маргариты» (1929–40, опубл. 1966!). В статье названы пьесы, биография Мольера, сборники рассказов. «Собачье сердце» — не названо, видимо, для 1987 г. (а писался этот том Энциклопедического словаря еще раньше) образ Шарикова был еще слишком смелым. Теперь — он может быть назван уже просто хрестоматийным, но не слишком ли?
Детство и юность Михаила Булгакова прошли в Киеве, это наложило, как говорится, отпечаток на все его раннее творчество. Это был не просто Киев, это был Киев времен гражданской войны, а сам Булгаков был не просто начинающим литератором, а врачом. Его мобилизовывали несколько раз, причем — и «те» и «эти», ему приходилось видеть и расстрелы, и еврейские погромы, и запрет на русский язык («тильки на мове»!), и бегство Петлюры, и торжественное вступление в Город «полков Советской армии». Все это описано в его дневниках, а впечатления о не очень-то удачной карьере врача — в его ярких ранних рассказах (в основном — «Записки на манжетах»).
И тогда уже появляется странная («зловещая») тема — «Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя в нетопленой комнате, ночью, я, стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки.... На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить».
Тем не менее, переехав в Москву в сентябре 1921 г., в 1923 г. Булгаков уничтожил все экземпляры своих пьес. Так начался его путь как «советского писателя и драматурга».
Рассмотрение хотя бы одной научной проблемы в произведениях Булгакова позволяет наглядно увидеть признаки последовательного формирования крупной писательской индивидуальности в советской литературе 20-х-30-х гг. При этом мы видим важную проблему вхождения в историю литературы принципиально новой творческой личности, которая и так существовала в литературе, но, по выражению Б. Пастернака, «незаконным явлением». «Незаконность» была в том, что писатель не печатался, но при этом, вопреки бытовому, психологическому, политическому давлению, активно работал. Новизна же такого писательского типа — в твердом внутреннем сопротивлении этому общественно-политическому давлению всех государственных структур; при этом творческий процесс активно продолжался, а собственные социальные и эстетические позиции открыто провозглашались в ущерб моральному и материальному существованию. Столь дерзко «незаконный» тип писателя получил дальнейшее развитие в нашей истории, особенно в 60–70-е гг. Например, поздний Б. Л. Пастернак, А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов. Сюда же мы бы добавили почти неизвестного современному читателю Д. М. Стонова, с которым Булгаков дружил в первые годы жизни в Москве. Его роман «Семья Раскиных» — несомненная творческая перекличка с романом «Белая гвардия»: в обоих дружные семьи переживают трагедию распада. Но не стоит, может быть, изображать Булгакова таким уж «борцом» с советской властью...
Проблема поэтики Михаила Булгакова. Так же, как авторское кино завершилось со смертью Ф. Феллини, так и искусство в целом тоже перестает пересоздавать мир в воображении, когда произведение исчерпывается личностью художника. Искусство, особенно ныне, пытается передать логику исторического развития, ухватить динамику жизни. Однако романтики в свое время провели гигантский эксперимент, всерьёз переведя все изображаемое в воображаемую плоскость. Это разработанное эстетическое обретение теперь нельзя не учитывать. И современные писатели своё воображение направляют на угадывание, подобно булгаковскому Мастеру, и, как следствие, сюжетное конструирование «истинного» порядка вещей. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» пафосно доказывает существование Бога, или, в представлении язычника, — присутствие чуда в нашей повседневной жизни. Скорее даже текст романа представляет отражение истины, в принципе недоказуемой обычными научными методами, факт почти обычный, как и излечение Пилата от головных болей гипнотическими усилиями Иешуа. Тем более современная математика соглашается с принципиальной непознаваемостью мира логическим способом. Ещё в 1963 г. Нобелевский лауреат Р. Фейнман усомнился в идеальном описании мира классической механикой и высказал идею о принципиальной ограниченности способности человека предсказывать. В наше время математики ввели термин горизонт прогноза, или предел предсказуемости. В самом деле, способны ли мы предвосхитить своё ближайшее будущее, если не можем с полной уверенностью сказать, какая погода будет завтра? Иешуа — тот предсказывает погоду на ближайшее время, и даже предвидит судьбу Пилата. Возможно, что не под силу математике, может решить интуиция, подсознательное. Именно актуализация реально невидимых (значит, несуществующих), событий и характеров стала основой «Мастера и Маргариты», а также некоторых повестей и пьес.
Часто Булгакова любят за его «сатирический стиль». Действительно, многое здесь запоминается. Но сатириком он был до 1926 г., года рубежного во многих отношениях. И вообще, чем он старше становился, тем меньше использовал сатиру. Иногда ведь сатиру путают с тем же мистификаторством, с озорством, с эсхатологизированной иронией, с правдоискательством, наконец. Это всё как будто почувствовал Булгаков 6 ноября 1923 г., когда записал в дневнике: «Недавно ушёл от меня Коля Г[ладыревский], он лечит меня. После его ухода я прочёл плохо написанную, бездарную книгу Мих. Чехова о его великом брате. И читаю мастерскую книгу Горького „Мои университеты“. Теперь я полон размышления и ясно как-то стал понимать — нужно мне бросить смеяться (подч. нами. — В.Н.). Кроме того — в литературе вся моя жизнь. Ни к какой медицине я никогда больше не вернусь. Несимпатичен мне Горький как человек, но какой это огромный, сильный писатель и какие страшные и важные вещи говорит он о писателе». Очевидно, что Булгаков осознал значение серьёзной прозы и понял, что такое «мастерство», имеющее мало общего с личностью человека. Смех, говорят, раскрепощает. Надо полагать, раскрепощает несвободную личность. Народная смеховая культура основана на средневековом опыте рабства. Юмор развлекает и облегчает общение как в незнакомом обществе, так и в обществе, проникнутом страхом. Сатирические жанры — это по сути своей отражение общественного неблагополучия. Художественное произведение, проникнутое сатирическим пафосом, да и просто комическим вообще, обнаруживает стилевую судорожность. Оно существует на опасной грани художественности, легко срываясь на сугубую злободневность. В дилогии об Остапе Бендере молодому русскому читателю, да и любому западному, уже многое непонятно и неинтересно, хотя это блестяще сделанные великие романы. Зощенко воспринимается литературным анахронизмом, хотя это большой художник. У Булгакова то, что называют «сатирическими страницами», у многих ценителей вызывает недоумение. Но всё это было отражением времени. Вечного — и бытового, существующих одновременно. Да и Булгаков, как и Зощенко, Андрей Платонов, сатириками не были по определению.
Мы отнюдь не исключаем сатирический пафос из крупных произведений Булгакова, однако, он порой не там, где его ищут. И пафос этот — не самый главный в творчестве писателя. Эпичность раннего Булгакова более привычна, потому что он тяготеет к устоявшейся традиции, к сложившимся эстетическим установкам. Но и в этом он неоднозначен. До сих пор открытым остается вопрос о жанре «Белой гвардии», поскольку основания для разногласий лежат в самом произведении. «Белая гвардия» только начало Булгакова-романиста, автора крупных эпических форм. Булгаков одним из первых советских писателей поставил в этом романе проблему пути интеллигенции в революции, и уже здесь выработал свой стиль, свою художественную форму. И больше того. «Белая гвардия» стоит особняком среди произведений советских писателей о революции и гражданской войне.
Авторский идеал «Белой гвардии», кстати, уступает авторскому идеалу «Мертвых душ» в масштабе, но не в серьезности; можно говорить, по нашему мнению, о намерении Булгакова стать «Гомером усобицы». Вспомним, что «русской усобицей» М. Волошин назвал гражданскую войну в надписи на акварели, подаренной Булгакову летом 1925 г., а самого писателя «первым, кто показал душу русской усобицы». И сочетание с Гомером здесь не натяжка: героев произведения затрагивают общие события национальной истории. Булгаков как чуткий художник видел, что дальнейшее обращение к замыслу превратит его в банальность, как это, например, случилось с эпопеей Пантелеймона Романова, созданной в конце 20-х гг.
Иррациональное начало в творчестве Булгакова, вероятно, можно объяснить тем, что писатель страдал от своей выключенности из литературного процесса. Отсюда булгаковское неприятие современной литературы (напоминающей ему об определённой писательской ущербности), а также использование мистических образов и ассоциаций. В художественной литературе мистика присутствует постоянно, проникая даже в сознание писателей реалистического направления.
При изучении многочисленных источников последнего романа Булгакова исследователи задумались не только о структуре романа «Мастер и Маргарита», но и о специфической авторской установке, сформировавшей определенные отношения романа с культурой в целом. К «старому» материалу, впитанному романом, относятся и «еврейские тайны» как часть субкультуры русского антисемитизма, считает, например, Михаил Золотоносов. Он призывает взглянуть на Воланда и его свиту как на сатанинские силы зла, держащие в руках весь мир и управляющие им по своему усмотрению. Им выдвигается рабочая гипотеза о том, что первоначально Булгаков имел в виду именно готовую идею мирового еврейского заговора в субкультуре русского антисемитизма, а также — иллюминатство, масонское «тайное общество просветленных». Но поскольку в окончательном тексте романа осталось мало закодированных свидетельств подобного рода, Золотоносов постоянно обращается к предыдущим вариантам рукописей, что напоминает нам уже подобного рода гипотезы про Ленина, Горького, Сталина и проч. как прототипов героев Булгакова.
Гегель, необычайно популярный в России в начале XIX в., был убеждён: власть всегда права. Эту же максиму, в общем-то, разделял Булгаков, который одинаково относится и к Иешуа, и к Пилату, и к Мастеру, и к Воланду. Булгаков находится не «над схваткой», он поднимает власть до художника Мастера и до философа Иешуа. Булгаков не до конца понимал советскую власть, вернее, понимал власть Советов не как тоталитарную, а как привычную авторитарную. Поэтому писатель, например, по-домашнему писал письма диктатору, беспечно сочинял и разыгрывал анекдоты про себя и вождя. А странные, не поддающиеся обычной логике телефонные разговоры Сталина с Булгаковым и Пастернаком, которых Сталин несомненно использовал в какой-то политической игре, только укрепляли реципиентов и окружающих в тотальном заблуждении.
«Мастер и Маргарита» — это своеобразный кодекс советской интеллигенции, увидевшей в героях и обстоятельствах романа себя, и догадавшейся, что можно жить по-другому, свободно и, хотя бы внутренне, независимо. Герой-интеллигент и герой-писатель были главными предметами внимания Булгакова как художника. Герой-интеллигент и герой-писатель были главными предметами внимания Булгакова как художника. Это естественным образом отразилось в творчестве. Борменталь — это интеллигент новой (советской) формации, он не имеет будущего. Шариковы его ещё достанут. Это человек долга, мужества в экстремальной ситуации, но в обыденной жизни он осторожен и лоялен властям, именно поэтому он проигрывает Шарикову. Приват-доцент Голубков меняет «вехи». Он перестаёт быть героем оппозиционного к новой власти сословия и переходит в новое качество: созидателей. В пьесе «Бег» нет аллюзий на этот счёт, и мы не знаем, что собирается делать в Советской России сын профессора-идеалиста. Вероятно, обратится к тому, чем и был занят до Октябрьского переворота. Может, станет ассистентом у профессора Преображенского.
Гораздо более сложным оказывается у Булгакова поведение художников. Очень часто художник у него смыкается с творческим интеллигентом, забирает у него его миссию. Когда художник в условиях тоталитарного или самодержавного государства вынужденно принимает на себя миссию интеллигента, он всё-таки остаётся в первую очередь художником. Поэтому его общественное поведение отлично от поведения интеллигента. И результаты — иные, как у интеллигентов Ефросимова, Преображенского, Голубкова, бунтующих против обстоятельств. Победы их почти предопределены. Художник же, чьё дело творчество, — то есть инстанция совести, справедливости, идеальных представлений, — беря на себя больше, чем от него требуется, терпит в выполнении своих дополнительных функций поражение. Взбунтовавшись против губителей их пьес, Мольер и Максудов теряют и пьесу, и жизнь. Мастер, отказавшись от своего «креста» и отправляясь в лечебницу Стравинского, тем не менее не перестаёт быть художником по своему мироощущению. А творчество чуждо бунта, поэтому в конце концов Воланд ему не находит места на земле и посылает к нему Азазелло с отравленным вином. Слияния художника с интеллигентом у Булгакова не получается. Интеллигент по сравнению с художником много более цельная натура. Художник же непредсказуем и противоречив. И в высшей степени неразумен: он часто поступает вопреки обыденному здравому смыслу. Таким был сам Булгаков. Таким вспоминает себя А. И. Солженицын на приёме в Кремле 17 декабря 1962 г. и в союзписательских взаимоотношениях. Но больше всего из булгаковских героев для понимания художника как типа даёт Мастер.
В произведениях Булгакова обнаруживается два типа творческих интеллигентов: Голубков с одной стороны и Мастер, Максудов с другой. Вообще же говоря, все силы интеллигентов у Булгакова повёрнуты к созиданию. Ну, а редкие «разрушители» терпят фиаско. Отражение Булгаковым двух корневых свойств русской интеллигенции, как представляется, позволяет увидеть в отражённом виде органичное условие существования образованной части советского общества. В массе своей интеллигенция стремилась не к бунту, а к созиданию, пускай ориентиры были подчас туманны или искажённы от неверного понимания. Все новые интеллигенты, пришедшие вслед Голубкову, Турбину, Преображенскому, унаследовали от них свойство быстрого освобождения от безоглядного бунта. В этом, наверное, и состоит разгадка русской интеллигенции, а вместе с ней содержится объяснение её новой созидательной миссии. Но при этом — печально известные письма Сталину и «советскому правительству». А за этим — «Мольер», история трагических взаимоотношений Художника и Короля!
Противоречивость в восприятии произведений, безусловно, объясняется их принципиальной незавершенностью. И совсем не напрасно на полуфразе обрывается «Театральный роман»: именно в его предисловии заявлено, что Сергей Леонтьевич Максудов «через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с Цепного моста вниз головой». А вот «Мастер и Маргарита» скорей имеет тенденцию к сюжетной «закругленности», которая была свойственна ещё античному и средневековому романам. Это объясняется, вероятно, самим гармоничным мировосприятием, заложенным в концепцию произведения. В булгаковедении уже установилось мнение о недописанности трех романов писателя. Говорилось о случайности точки в конце «Белой гвардии» (Симонов), об исчезновении интереса автора к «Театральному роману» в силу новой увлеченности прежним замыслом (Чудакова, Симонов, Олонова), о ранней смерти писателя, оставившей работу над «Мастером и Маргаритой» (Чудакова, И. Бэлза и другие).
Нахождение в рамках закономерности, несвобода для персонажа Булгакова равнозначна гибели. Его спасает только причастность к общечеловеческой культуре. Отсюда и незаконченность, разомкнутость булгаковских романов; уж такова их форма, претворившая в себя содержание. Это та самая незавершенность «Героя нашего времени», «Мертвых душ», «Братьев Карамазовых», «Евгения Онегина» и «Медного всадника».
Пожалуй, оборотничество — это органичный способ существования романной действительности, проникнутой чудесами и сюрпризами нечистой силы. Клиника — место прозрения, куда попадают все «обернувшиеся» из вялотекущей действительности. А по логике романа — это ещё тюрьма для тех, кто, столкнувшись с нечистой силой, открыл глаза на собственное место в исторически ненормальной жизни. Сама жизнь предстала им обернувшейся адом, и значит, их требовалось «подлечить». Лечение заключалось в гипнозе, который возвращал пациентов к прежнему мироощущению. Однако встреча с нежитью, как и пребывание в концлагере, не обходится без последствий... Эпилог, в котором по литературно-театральной традиции абсолютно всё «разъясняется», с отсылкой на дотошное следствие и опытных психиатров, напоминает собою то самое неуклюжее «разоблачение» в духе Коровьева. Оборотнем здесь предстает повествователь романа, как бы пародирующий политические следствия 30-х гг. и сводящий все с помощью скоморошьего юмора к фигуре некоего «главаря шайки гипнотизёров», за которого выдается Коровьев в данном случае. Обычная вещь: настоящие гипнотизёры школы профессора Стравинского, обернувшись чекистскими следователями, обвиняют команду Воланда в массовом гипнозе, взбаламутившем Москву.
Нельзя тут не вспомнить, что общественно-исторический фон, на котором возникло и развивалось творчество Булгакова в 1920–30-е гг., отличался двумя тенденциями. Первая представляла апокалиптические настроения, отражением которых являлся философский труд Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918 г.; перевод первого тома вышел в свет в России в 1923 г.). Вторая тенденция несла марксистско-социалистические идеи преобразования так называемого «старого мира». Мировая война абсолютизировала два этих типа взглядов на современность и повлияла на умонастроения всех мыслящих европейцев и американцев. Речь шла, собственно, не только о судьбе Европы, но и о противопоставлении духовных ценностей потребительским. Причём, последние в глазах современного человека стали приоритетными. Таким образом, соотношение культуры как высшего достижения человечества и цивилизации как создания продуманной системы удовлетворения различных потребностей человека сложилось ныне в пользу цивилизации. Это было предметом размышлений русских мыслителей, высланных в 1922 г. советским правительством за границу.
С весны 1937 г. начинается завершающая работа над главным романом. 24 июня 1938 г. роман перепечатан и приобрёл почти окончательную редакцию. Параллельно и после этого пишутся либретто «Пётр Великий» и инсценировка «Дон-Кихот», решённая как самостоятельная драма, а также романтическая пьеса «Батум» о революционной юности Сталина. В этот период не осталось иллюзий относительно своей судьбы, и потому, не без влияния своего романа, Булгаков ясно увидел «перспективу столетий», а, прежде всего, ближайших 25 лет. Именно такой рубеж он определил в предсмертном разговоре с женой о публикации романа «Мастер и Маргарита».
Разрешение конфликта, показанного в «Записках покойника», перенесено в этот роман, и именно вопросы личной честности художника и зависящей от неё судьбы творчества составляют одну из основных идейных линий последнего романа. И то, к чему стремился писатель на протяжении всего творческого пути, обретает отчетливые эстетические контуры, а само творение поднимается на высоту художественного совершенства. Выход этот единственно возможный, посмертно итожащий судьбу главных героев. Роман же подводит итог всей довоенной эпохи, о чём булгаковедение ещё скажет своё слово (роман «Мастер и Маргарита» мог быть написан только до второй мировой войны, после неё тема была бы решена по-иному). Но самое главное — роман Булгакова написан как трагедия, и лично для писателя последние годы третьего десятилетия были трагичны во всех отношениях.
В этот период Булгаков естественным образом проникался философией художника и прилаживал свою жизнь к тому общекультурному идеалу писателя, который называли и называют обычно совестью народа, выразителем и хранителем высших духовных интересов нации. Между тем жизнь в довоенный период все более и более понуждала каждого писателя к служению не народу, а политическим интересам государства; они же, как известно, не всегда совпадают. Оттого «закатный роман» пронизан карнавальным мироощущением с его театрализованным характером смехового элемента, исключительной свободой сюжетного и философского вымысла, с экспериментирующей фантастикой, эксцентрикой, резкими контрастами, публицистичностью.
Что же касается философской природы последнего романа Булгакова, тут можно отметить, что его трудно отнести к образцам философского жанра, написанным Г. Гессе, А. Камю, Т. Манном, Р. Музилем, Ж.-П. Сартром. Эти произведения заняты только вопросами, поднимаемыми философией, а роман Булгакова — чисто художественное явление и философским его назвать трудно, хотя философия там присутствует, как и во всяком подлинном творении. И. Виноградов, один из первых, кто обратился к философской стороне содержания романа и определил его жанр как философский, недаром все-таки вывел в своем анализе за скобки нравоописательные, «современные» главы романа: они, конечно же, мешали относить произведение Булгакова к чисто философскому жанру. Собственно роман — это произведение, показывающеё в развитии характер и широкий круг жизненных явлений. Естественно, в настоящем романе должна быть и философичность, и лиричность, как и правда жизни, правда характеров. Роман «Мастер и Маргарита» можно определить как «свободную мениппею». Свободная мениппея, по мнению Бахтина, была представлена в творчестве Гофмана, который, несомненно, оказал значительное влияние на Достоевского. Явление гротескного реализма (термин Бахтина) бросается в глаза прежде всего в мелких обстоятельствах произведения. Мы, например, можем легко высчитать время действия современной линии романа: Москва «вообще» в послереволюционный период. Так что стоит говорить о фантастической обобщенности повествовательской позиции, об особенностях, прежде всего условности, художественного мира. И не только «закатного романа», но и остального творчества Булгакова. Из полутораста с лишним инсценировок «Мертвых душ» Гоголя сделанная Булгаковым считается едва не самой лучшей, а между тем в ней немало «вольностей», против которых были и Станиславский, и Немирович-Данченко. Мы убеждены, что для более полного освоения этой проблематики эффективнее всего использовать методологические положения теории автора художественного произведения.
Дискуссию о человеческой природе в романе ведут герои «древних» глав Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри. Иешуа верит в наличие добра в мире, в предопределенность исторического развития, ведущего к единой истине. Пилат убежден в незыблемости зла, неискоренимости его в человеке. Ошибаются, оба: «волосок жизни» Иешуа легко перерезан людьми; своей смертью Иешуа потряс совесть Пилата. В финале романа оба продолжают на лунной дороге свой двухтысячелетний спор, навечно их сблизивший; так зло и добро слились воедино в человеческой жизни. Это их единство олицетворяет Воланд, который говорит, что в мире есть вообще разные теории, но он выделяет лишь одну из них. И высказывает излюбленную мысль Булгакова: каждому будет дано по его вере. И зло, и добро, полагает писатель, в равной степени присутствуют в мире. Но они совсем не предопределены свыше: и зло и добро порождены людьми, следовательно, человек же и свободен в своем выборе. Вообще человек более свободен, чем думают многие, и не только от рока, но и от окружающих его, человека, обстоятельств. А коли человек свободен в выборе, он полностью ответствен и за свои поступки. Никакие наитяжелейшие обстоятельства, никакой рок не могут снять с него вины за содеянное зло. Нравственные основания для писателя в этом смысле намного важнее материальных и социальных. Поэтому прав исследователь, определивший утверждение Булгаковым абсолютной первичности нравственной позиции. Так что тема нравственной свободы и ответственности человека, а также тема «личность в вечности» безусловно определяют философскую направленность и глубину творчества Булгакова. Именно с этих позиций нам следует рассматривать его вершинное произведение.
Многоаспектность романа стала уже общепризнанной. Между тем среди меньшей части ученых и критиков по сей день встречается скептическое отношение к тезису об огромной культурной ценности булгаковского творчества. Наиболее симптоматичным нам видится скепсис в адрес романа «Мастер и Маргарита» Л. Аннинского, утверждавшего в 1970 г., что «сам М. Булгаков заразился от описанного им сатирического мира бессильной злостью». Пожалуй, причина негативной реакции критика на роман в том, что он просто не принимает «авторской» концепции действительности, и в результате видит лишь «следствия», но не «причины» романа. Однако Булгаков в своем произведении отнюдь не создает апологию «слабого духа», по выражению того же критика, хотя и лишает Мастера «борцовских» качеств. Маргарита, учинившая разбой в квартире Латунского, впоследствии быстро обретает благоразумие и, в ответ на недвусмысленное предложение Азазелло физически расправиться с главным обидчиком Мастера, отвергает такой способ. Дело не в мести или в «бессильной злости». Скорей всего, творчество у Булгакова представляет собой «процесс безусловного постижения единочитаемого облика действительности». Иными словами, писатель, как и герой его романа, Мастер, постигает, или «угадывает», действительность такой, какой она ему видится, отыскивая ее общие закономерности, связи между явлениями. И такой представляется ему задача всякого художника.
Писателю чрезвычайно близок автор-творец романа. Сложная повествовательная структура и высокая самодостаточность героев делают фигуру автора-творца невыявленной, а значит, более уподобленной реальному автору, поэтому так естественно воспринимаются частые «вмешательства» повествователя в текст романа и хорошо видны тесные отношения его с основными героями. В характерах главных героев можно отметить существеннейшие особенности травестийного стиля, присущего средневековому искусству. Мастер, Воланд, Иешуа — преемники героев средневековых произведений, Скорее даже — героев романов эпохи Возрождения. Поэтикой средневековья, и особенно позднего средневековья, когда расцветали «карнавальные» жанры, вообще пропитан весь роман. Травестийная природа Мастера, Воланда и Иешуа выражается в «скитальчестве» каждого из них, более того, в состояние «скитальчества» вовлекаются ими и Пилат, и Левий, и Маргарита, и Иванушка. В результате этого они «прозревают»; второстепенные герои, пережив испытания Воланда, становятся чуточку лучше, а то и исправляются совсем (кроме предателей по природе своей). Названное явление определенно заимствовано из плутовских романов, отразивших массовое бродяжничество как распространенную тенденцию европейской жизни XVI — XVII веков. Значит, в романе «Мастер и Маргарита» усвоен следующий принцип целой литературной эпохи: чтобы что-то изменить, чего-то добиться, или, напротив, сохранить в себе, нужно отстраниться, с чем-то расстаться, превратиться в «скитальца». «Бродяжничество» и «скитальчество», героев создает им прекрасные условия для самопроявления, делает их характеры динамичными, включает в огромный контекст мировой культуры. И в этом отношении они далеко ушли от ранних персонажей Булгакова Турбиных, доктора Преображенского, для которых важным условием нормальнейшего существования был Дом: незыблемый семейный уют, родственные и дружеские узы, устоявшийся быт, предметы старины, связывающие всех с истоками рода и Родины. Да ведь мир теперь сильно изменился, культурные связи с прошлым прервались, и, кажется, одни только Максудов да Мастер их соединяют своим творчеством. Серафима Корзухина и приват-доцент Голубков не рождены для «скитальчества», оно — беда для них. Пускай прежнего Дома нет, они в него стремятся обратно. Но изменился мир, и меняются герои Булгакова. Мастер, лишенный Дома, а вслед за ним Маргарита, Иванушка вовлекаются в скитальческий поход по Москве и по времени, не оглядываясь с сожалением назад, ибо понимают: что прошло, уже не будет. Все это первая особенность главных героев романа. И вторая — мифологичность, сказочность их природы. Волшебство и превращения в романе случаются на каждом шагу. Под влиянием главного «волшебника» Воланда Иван Бездомный начинает переоценку своей жизни и взглядов. И в рассказе Мастера о самом себе (глава 13) Иванушка уже играет роль идеального читателя. Иванушка и читатель, как в сказке или притче, ко времени появления главного героя умнеют. Мудрость сказки обычно заключена в главном герое, до которого дорастают другие герои, а вместе с ними — читатель.
Иешуа, исповедующему добро как высшую ценность, противостоит Понтий Пилат — воплощение практического разума при явной недостаточности нравственных начал, значит, без чувства долга и свободы. Напротив, другой главный герой, Мастер, обладает всеми высокими нравственными качествами, испытывая лишь недостаток в практическом начале. В нем решающее свойство художника — воображение — затмевает остальные, рассудочные. Воланд же, постоянно судящий всех остальных героев романа, обладает ведущим качеством всякого судьи — беспристрастностью. Он почти безупречный герой, если б не его всеведение и всепонимание, подразумевающие и спокойную совесть. Все это вместе наталкивает, казалось бы, на мысль, что Воланд изначальней нравственности. Но, в сущности, Воланд — символ опытного применения этического учения Канта на практике (не случайно он сам говорит, что они были знакомы!). Он — воплощённая идеальная концепция той действительности, которая создана автором-творцом, точно так же, как автор-творец — выразитель концепции всего произведения. И Воланд, и «автор» — единственные персоны со знанием конечной истины в пределах романа. Мастер эту истину «угадывает», а Иешуа олицетворяет.
Итак, мы можем назвать оппонента Воланда в структуре всего произведения. Это сам автор-творец романа, по отношению к которому, впрочем, Воланд во многом показывает себя и единомышленником — такова уж эта травестийная фигура. «Автор» объединяет трех повествователей, представляющих три лика автора-творца романа. Столь усложненный носитель концепции всего произведения, выраженный тремя субъектами речи, в повествовательных структурах романа (за исключением «древних глав») заявляет о себе самым простым способом: с помощью вводных обращений к читателю: «Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос». «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!». Два разных повествователя с равной степенью откровенности передают скептическое — в первом, случае, а во втором — возвышенно-вдохновенное слово «автора». То обстоятельство, что вводные слова в романе можно с уверенностью отнести к «автору» (два непохожих друг на друга повествователя не могут одинаково откровенничать), позволяет нам особенно к ним прислушаться, и в первую очередь в главе 1, где завязываются все «узлы» произведения. А, прислушавшись, сделать заключение: автор-творец относится к Воланду с пониманием и сочувствием. Обращаться к вводным словам «автора», очевидно, понуждает присутствие в сюжете такой внушительной фигуры, как Воланд, влияние которого в тексте нужно отчасти нейтрализовать: «автор» не может все-таки отдать инициативу герою. Действия Воланда и его клевретов носят неизменно хорошо выраженный целеустремленный идейный характер. Это сказывается в очевидно пристрастном отношении ко всем героям романа. Воланд крайне благосклонен к Мастеру, Маргарите, которые обладают возвышенными характерами, и, напротив, неприязненно настроен к Сокову, Могарычу, Берлиозу. В резкой нравственной дифференциации заложена мирообъяснительная суть его необычной натуры. В романной структуре Воланд несет большую смысловую нагрузку. Этот загадочный персонаж несомненно приближен, может, в наибольшей степени, к объективной идее произведения. Поэтому Воланд зримо ли, незримо присутствует в романе на всем пространстве текста. По его словам, он даже был при допросе Иешуа Пилатом: «...я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас — никому ни слова и полнейший секрет!.. Тсс!». Комически обыгрывая свое появление, — вот и в этом случае, когда он явственно насмехается над наивной «бдительностью» литераторов, — Воланд никогда не говорит неправды, ему это ни к чему. Так что можно не сомневаться: он был рядом с Пилатом.
Воланд самый загадочный персонаж романа. Называть его просто сатаной было бы опрометчиво — хотя бы потому, что именно сатана «изобрел» спокойную совесть. Воланд же не терпит скрытых пороков и равнодушия, и непременно их разоблачит.
«Склонность ко злу в человеческой природе», которая, по Канту, подразделяется на три ступени: «хрупкость человеческой природы», «недобросовестность» — смешение моральных мотивов с неморальными, и, наконец, «злонравие» — испорченность, склонность к принятию злых максим, — толкает героев романа на поступки двух видов: продиктованные практическим расчетом и просто аморально бездумные. Арчибальд Арчибальдович недаром уподоблен фельетонно-сатирическим повествователем капитану пиратского брига. Этот ловкач (как и «кондор» Гавриил Степанович из «Театрального романа») всегда готов встретить любые неприятности, чтобы, воспользовавшись общей суматохой, выйти «сухим из воды», да еще и прихватить балыки под мышкой, как это у него получилось на пожаре в писательском ресторане. Поплавский, дядя Берлиоза, не менее бездушный и деловой, тоже не упустит своего, если представится такая возможность, а не представится — он обождет. Оба этих «разумных практика» не так опасны, поскольку они замкнуты на себя, это осторожные негодяи. Так же осторожен и карьерист Римский, человек себе на уме, который никогда и виду не подаст о своих подлинных, глубоко спрятанных за внешней добропорядочностью, намерениях. Но это уже не рядовой негодяй, свои дела он обделывает за счет других. Более откровенен в своей низости и суетен Алоизий Могарыч. Ему же подобен мелочный скупердяй буфетчик Соков, потчующий клиентов по горторговской «привычке» осетриной «второй свежести». Сокова Воланд склонен отнести к «удивительным подлецам». И уже совсем полное неприятие Воланда вызывает наушник барон Майгель, призвание которого — целеустремленный донос. Ему в романе, как и Берлиозу, выносится приговор — смерть.
Тема любви всегда вносит в произведение искусства лирическую интонацию грусти и печали, а порой и гражданской отверженности, когда среда, окружающая поэта, отнимает у него смысл жизни, оставляя лишь любовь, ей неподвластную. В романах Булгакова эта тема прошла свою эволюцию. Влюбленности героев «Белой гвардии» на трагическом фоне событий гражданской войны придают их судьбам впечатление зыбкости и быстрой преходящести человеческого счастья. Их любовь лишена будущего, ибо она только род духовного убежища. Максудов же совсем обделен любовным чувством, и это обстоятельство должно только подчеркивать его остро ощущаемое одиночество, в котором вынашиваются гордые планы сбережения чести художника. После того как высвечена вся история драматурга, композиция романа теряет энергию и роман обрывается на щемящей ноте, поскольку без любви — не жизнь, и никакой «роман с театром» не заменит теплоты человеческого чувства. Надо заметить, в любом шедевре мировой литературы почти обязательна любовная линия, которая придает осмысленность жизни героев и делает по-настоящему жизнеподобным само произведение. Построение любовного сюжета — это камень преткновения для романиста и вместе с тем свидетельство его профессиональной зрелости. Только в «Мастере и Маргарите» Булгакову удалось выразить «настоящую, верную, вечную любовь», которая естественным образом проясняет главную мысль романа. Любовь Маргариты и Мастера необычна, вызывающа, безрассудна, и этим как раз привлекательна, в нее верится сразу и навсегда.
В странах европейской культуры свободная любовь, особенно людей, связанных брачными узами, традиционно считается делом предосудительным. В ситуации любовного треугольника остаться с супругом — наиболее достойный выход, воспринимаемый как сохранение моральной традиции. Напротив, преступающие через такое смирение, особенно женщины, вызывают осуждение окружающих. Но еще с эпохи Возрождения началась другая традиция — свободы выбора, в том числе и в любви. Две эти традиции постоянно с тех пор сталкиваются, что находит яркое отражение в литературе. Характеры женщин внутренне свободных и потому «распущенных» (Кармен, Манон Леско) в новейшей литературе противопоставляются характерам с ограниченным волеизъявлением, с раздвоенным чувством долга (Эмма Бовари, Анна Каренина). Характер Маргариты, раскрывшийся на «балу у Сатаны», в этом плане представляется продолжением и развитием ренессансных традиций, когда в условиях крайне нормативного (тоталитарного) государства женщина,, преступающая семейный долг и ради любимого «отдающая душу дьяволу», бросает вызов этому государству — гонителю ее возлюбленного. Она в этом случае наносит моральный урон не столько законному мужу, сколько себе самой, и потому, на наш взгляд, заслуживает сочувствия. Тем более, что поступок ее продиктован солидарностью и любовью к гонимому художнику. Опасен не конечный результат, но вызревание результата. Властей предержащих сама возможности чьей-то не подконтрольности уязвляет, поэтому Воланду ясно, что счастливыми свободные люди здесь быть не могут. Он умерщвляет и Маргариту и Мастера, предоставляя им «покой» и соединяя любовников навечно в иной жизни. Обоим тем самым сохраняется высшая свобода — общество к ней явно не готово.
Характер Маргариты раскрывается во взаимоотношениях с Воландом, который всегда провидит суть человека. А человеческая натура Маргариты, с ее душевными порывами, преодолением соблазнов и слабостей, обнаруживается как сильная и гордая, совестливая и честная. Именно такою Маргарита предстает на балу. Она интуитивно и сразу схватывает истину, как способен на это лишь нравственный и разумный человек с легкой душой, не отягощенной грехами. Если она по христианским нормам и грешница, то такая, которую язык не повернется осудить, ибо любовь её на редкость самоотверженна, так может любить только истинно земная женщина. Однако поскольку, по мудрому рассуждению Воланда, «тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит», Маргарита достойна лучшей участи, и ей уготован «покой» рядом с любимым. Точно так же она готова была остаться бедствовать с Мастером на земле. Если учитывать, помимо социальной стороны, еще и биологическую (ведь Булгаков был профессионально осведомлен в этом аспекте), то нельзя обойти вниманием то обстоятельство, что взаимоотношение этих заглавных героев — лишнее подтверждение учения русского физиолога И. М. Сеченова, согласно которому нормальному человеку суждено пережить лишь одну любовь, как прожить только одну жизнь. Оба встретили такую любовь, оттого Маргарите невозможно пережить разлуку с возлюбленным. Да и нет у нее ничего, кроме возвышающего личность полновластного чувства. И любовь ей не оставила выбора. Нет выбора и у Мастера, избравшего себе стезю художника, и готового всей душой ей следовать до конца. Ведь каждый, в конечном счете, выбирает себе судьбу сам. В подтверждение сравним мысль Вл. Соловьева: «Нет такого житейского положения, хотя бы возникшего по нашей собственной вине, из которого нельзя было при доброй воле достойным образом выйти».
Между тем само наличие спора между «автором» и героем создает уникальную ситуацию: Воланд в основной части романного действия «уходит» из-под влияния «автора». В финале, признав за Мастером право на отступления от принципов примата практического разума в нравственном законе, Воланд тем самым принимает «авторскую» точку зрения на искусство. И здесь «автор» с героем возвращаются к традиционным отношениям. Конечно, этот прием дает возможность автору-творцу провести свою идейно-художественную линию с помощью героя наиболее эффективным способом. Вместе с тем он обнаруживает и односторонность Мастера, который видит мир только через призму «добра», не учитывая «тени». Своей непримиримостью он отчасти уподобляется фанатичному Левию Матвею. Именно односторонность не дает ему дописать свой роман. Однако Воланд, приблизив Мастера к себе, тем самым передал ему ощущение многообразия мира и это дало возможность им обоим соединенными усилиями завершить роман. Таким образом, утверждена мысль: идеальное творчество обязательно поверяется действительностью. Так что Мастер — автор «исторического» романа и одновременно прообраз автора-творца основного романа, — угадав Иешуа, — а значит, истину, идеал, — и, угадав Воланда, олицетворяющего собой концепцию действительности, которая стала соавтором Мастера, тем самым вышел на новый, более широкий уровень понимания человека в мире, преодолел свой нравственный порог. «Совершенное искусство снова становится природой», — полагает Кант. Мастер утвердил эту мысль личным опытом, соединенным с действительностью, но и сохранив свою нравственную индивидуальность.
Если стянуть в один узел все узлы двойственных (игровых) взаимоотношений героев романа, то можно сделать следующий вывод: человек хрупок, и без посторонней помощи вряд ли способен обрести нравственное равновесие. Не все и способны на такое равновесие. В этом Булгаков видит преимущество у любящей, как Маргарита, натуры, а также у натур творческих, которые находят настоящую опору в многообразной действительности. Это может быть художник (Мастер), философ (Кант); по правильному пути движется и «сотрудник Института истории и философии профессор Понырев»... Именно им, отвечающим идеальным представлениям о нравственности, соединенной с трезвым рассудком, доступна истина. В финале романа «Мастер и Маргарита» сливаются все главные линии героев: Иешуа — Пилата и Воланда — Мастера. Пилат, искупивший свою вину и прощенный Иешуа, встречается с ним на лунной дороге, где оба они продолжают свой нескончаемый спор; Воланд, рассмотрев «комплекс художника» у Мастера, присуждает ему награду, равносильную гармонии, то есть, единству противоположностей. И Мастер, пользуясь его поддержкой, заканчивает свой роман. Одновременно соединяются два других функциональных уровня романа: «автора» и персонажей. Образовавшийся союз двойственных ключевых героев — Иешуа (олицетворенная истина), Воланда (концепция вечной действительности в романе) и Мастера, автора «исторического» романа и прообраз автора-творца произведения, «угадавшего» обоих героев, — представляет не что иное, как автора-творца «Мастера и Маргариты», выразителя концепции всего произведения, естественным образом объединяющего все уровни и эстетические фигуры рассматриваемого романного жанра. Достигнутое всеобщее единство функциональных фигур романа — героев и «автора» — зарегистрировано многозначным призывом, которым Мастер закончил свой роман: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!». Он словно бы служит иллюстрацией кантовскому принципу всеобщего правового гражданского общества, членам которого предоставлена величайшая свобода, совместимая лишь с полной свободой всех и каждого в отдельности.
Так что созданная в «Мастере и Маргарите» характерная для мировой культуры ситуация самоопределения, выбора, в отличие от подобной в «Театральном романе», получила здесь определенное разрешение. В результате создается своеобразная, в духе гётевской традиции, модель мира, в котором истина и действительность, ее утверждающая, взаимно дополняют друг друга, ибо, согласно идее романа, если восторжествует одна абсолютная истина, то есть добро, то утратится какая-либо его ценность, а если восторжествует действительность, исключающая истину, то наступит хаос. Такая философская концепция, выводимая объективно романом, а также анализ взаимоотношений между героями, дающий возможность приблизиться к объективному пониманию «авторской» позиции, позволяют оценить замысел и его воплощение Булгаковым в его «закатном романе». Опираясь на христианскую религиозную традицию и основанное на ней учение Канта о нравственном законе, Булгаков создал выверенную концепцию добра. Причем и добро, и зло в романе подвижны. Человек в земной юдоли находится в сфере борьбы и единства противоположностей. А итог подводит «вечность».
Приложение
Булгаков и «классики». Гоголь. «Из писателей предпочитаю Гоголя; с моей точки зрения, никто не может с ним сравняться», — так отвечал Булгаков в середине или конце 20-х годов на вопрос своего друга и биографа П. С. Попова.
Отношение к Гоголю стало важной частью всей творческим жизни писателя. Л. Е. Белозерская (вторая жена писателя) рассказывает: «Булгаков говорил, что женщины помогут как следует понять Гоголя: „Они понимают Вечера на хуторе близ Диканьки, все эти бытовые подробности... Но более позднюю прозу... портреты чиновничества, которое постоянно возрождается...“ У Булгакова к Гоголю было совершенно особое отношение. И каждым случаем пользовался, чтобы пройти мимо памятника... Он называл этот памятник „Больная птица“...»
Его ранние рассказы и повести открыто ориентированы на Гоголя, особенно на повести «Нос», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего»; в «Белой гвардии» заметней связь с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», обусловленная, видимо, самой темой Киева в ее лирической интерпретации в романе (отметим здесь, что в первые годы жизни в Москве мысль о Гоголе должна была возникать и биографически: литературная гуманитарная среда, по многим свидетельствам, вплоть до середины 20-х годов воспринимала Булгакова как «писателя из Киева»). Так, можно увидеть некую близость к «Ночи перед Рождеством» (у Булгакова время действия — также перед рождеством, и второй год от начала революции противопоставлен, кажется, идиллическому гоголевскому рождеству). «Гоголевским» кажется само изображение большей части событий романа на фоне или, вернее, в раме ночного морозного зимнего пейзажа (как и у Гоголя), и периодическое возвращение к этому фону или раме, приуроченное чаще всего к началу глав и главок. По в целом «Белая гвардия» поставлена скорее под знак толстовской традиции: Турбины проецируются па Ростовых, в Николке — черты братьев Ростовых, рвущихся к исполнению воинского долга, сам автор в едва ли но наиболее отчетливой автохарактеристике пишет, что сделал своей задачей «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской воины в лагерь белой гвардии, в традициях „Войны и мира“. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией». Литературная жизнь Булгакова началась в то время, когда возникла в значительной степени новая для отечественного общественного бытия совокупность представлений, получившая название «отношение к классике». Это понятие быстро вошло в рабочий инструментарий критики, оно несло в себе разные смыслы, и без их уяснения трудно понять, что значило это в творческой судьбе Булгакова. Разработка этих представлений критикой шла на фоне предположения, что литература начинается заново. Дистанция, перерыв во времени между классикой и новой литературой были непременным условием «отношения к классике» — как к чему-то отодвинутому, представленному на обозрение. Перерыв этот должен был быть занят «учебой у классиков». О принципах и способах этой «учебы» шли споры, но в любом случае «старая» литература предполагалась завершенной, пробел между классиками и новыми писателями — очевидным, только одни полагали, что новая литература будет непосредственным продолжением прежней, другие же считали, что, оформившись, новая литература продолжит движение в иной плоскости, с принципиальным сдвигом художественных ориентации.
Литературная позиция Булгакова отличалась и от того и от другого устремления, утверждалась не без внутренней полемики с ними. Для него прежде всего не существовало той дистанции (предполагавшей разрыв, перерыв), без которой не могло и зародиться само понятие «отношения к классике» — как отношения к чему-то отстраненному от воспринимающего. Он не стремился учиться у классиков, чтобы их заменить. Для него задачей было стать не «новым» классиком взамен «старого», а новым, то есть еще одним — продолжить собою ряд, не давая образоваться тому пробелу, который казался очевидным (что и дало позиции писателя оттенок высокого утопизма). Это было самосознание не ученика, а наследника, продолжателя рода. Оно, сложно преломившись в творчестве, определило и многое в жизнеповедении, что по-разному отмечается разными мемуаристами — С. Ермолинским, В. Катаевым, Э. Миндлиным, которому запомнилось резкое выступление Булгакова в одном из московских литературных кружков начала 20-х годов. Он говорил, среди прочего, что «после Толстого нельзя жить и работать в литературе так, словно не было никакого Толстого...». За этими словами прочитывается отрицание такого периода в движении современной литературы, который должен быть отдан «учебе у классиков», в том числе у Толстого, как бы в ситуации отсутствия самого Толстого, отодвинутости его в «другую» литературу. Через несколько лет, осенью 1929 года, осмысливая происшедшее за последний год, Булгаков услышит сравнение пьес Маяковского с Пушкиным и Гоголем («несмотря на то, что приемы Маяковского резко отличаются от приемов Гоголя и у него другой подход»), и это сравнение прозвучит для него, по-видимому, весьма сильно, задевающе; оно, как и сравнение с Мольером («После чтения, как водится, начались дебаты, которые, с чьей-то легкой руки, свелись, в общем, к тому, что, слава богу, среди нас, наконец, появился новый Мольер», — вспомнит позже В. Катаев), было для него экспансией в ту область, которую он считал «своей». Один из стимулов рождения замысла пьесы «Мольер» был литературно-полемический: Булгаков предложил как бы свой ответ на вопрос, какая пьеса сегодня должна быть названа «классической». Судьба этой пьесы сыграла, как известно, большую роль в действиях, предпринятых им весной 1930 года, и в этих действиях присутствует ориентация на классиков — и именно на Гоголя.
Известно, по свидетельству Е. С. Булгаковой и по письмам писателя, что Булгаков собственноручно уничтожил первую и начало второй редакции (1928–1929 гг.) будущего романа «Мастер и Маргарита». Это был совершенно явно «гоголевский» поступок, хотя и прямым подражанием Гоголю это назвать нельзя: другим был взгляд на текст, другим была и атмосфера, которая Булгакова на это толкнула.
Но как это произошло? Есть основания предполагать, что прежде самого действия появилось описание его в письме от 28 марта 1930 года: «И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало романа „Театр“. Все мои вещи безнадежны». Почему не просто — уничтожил, а с такими картинными подробностями — своими руками бросил в печку? Генезис этой фразы однозначен: автору письма было легче танцевать от печки Гоголя. И уже написанное слово повлекло за собой действие. 28 октября 1968 года Елена Сергеевна Булгакова, вдова писателя, так комментировала эту фразу в письме о сожжении рукописей: «Булгаков попросил меня печатать ему. Я перенесла машинку в его квартиру... Он диктовал мне письмо правительству. Продиктовав слова „бросил в печку“, он остановился и сказал: „Ну, раз это уже написано — это должно быть и сделано“. В комнате топилась большая круглая печь. Он стал тут же вырывать страницы и бросать их в огонь. „Но если я сожгу все, мне никто не поверит, что роман был“, — поэтому, выдирая, он оставлял часть листа — у корешка» (эти уцелевшие фрагменты и позволили впоследствии реконструировать 12 глав первой редакции романа, содержание которых до 1976 года оставалось неизвестным). Было ли это точной передачей факта или частью той легенды о писателе, которая творилась Еленой Сергеевной и другими мемуаристами в 1960-е годы? Видимо, черновики действительно уничтожены были в момент писания письма и именно в трезвом и ясном сознании своих действий. Это был не импульсивный, аффективный поступок — скорее это было целое действо, обдуманное и имевшее свой образец, и практический (троекратное сожжение Гоголем второго тома «Мертвых душ»), и словесный. Для Булгакова этот поступок не был столь драматичным, каким был бы для многих писателей. Слова, сказанные им еще в «Записках на манжетах», — «Написанное нельзя уничтожить» (как и ставшие еще более известными слова «Рукописи не горят») — имели, кроме своего высокого смысла, еще и смысл почти буквальный. Для Булгакова, с его особенностями творческого процесса, уничтожение рукописи не означало, в сущности, гибели текста — он мог быть возрожден заново, и в близких словесных формах.
Сожжение романа было поступком демонстративным (хотя демонстрировалось оно только самому же автору и одному свидетелю) и, главное, имеющим литературный источник: ставшее историческим (и легендарным) сожжение, осуществленное когда-то Гоголем. Важно было именно действие сожжения — и в первую очередь тем, что должно было указать адресату диктовавшегося письма на параллель с «классиком» (это была, в сущности, свернутая фигура сравнения: «И я, как Гоголь, своими руками бросил в печку...»). Забота о том, чтобы оставить следы существования романа, также указывает на связь с Гоголем. В записи ответов Булгакова на вопросы его друга и биографа П. С. Попова есть слова: «Вероятно, 2-й части „Мертвых душ“ не было». Отметим несомненную их связь с мыслью об оставляемых следах, о том, что без них «никто не поверит». Здесь также зашифровано сравнение: «как с Гоголем» — то гаданье об уничтоженном перед смертью втором томе, которого хватило едва ли не на целый век и которое, как понимал Булгаков, продлится и далее.
Весной 1930 года Булгаков оформлен на службу в МХАТ на должность режиссера ассистента, и 17 мая 1930 года, в той самой большой «Записной книге», где более полугода назад делались первые выписки для пьесы о Мольере, Булгаков обращается к неожиданно вставшей перед ним сложнейшей задаче сценической интерпретации «Мертвых душ». Два года спустя, вспоминая в письме к П. С. Попову (от 7 мая 1932 г.) это время, Булгаков, не без пафоса самоиронии, уверял, что «Мертвые души» инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение». И вопрошая — «А как же я-то взялся?» — разъяснял: «Одного взгляда моего в тетрадку с инсценировкой, написанной приглашенным инсценировщиком, достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах. Я понял, что на пороге еще Театра попал в беду — назначили в несуществующую пьесу. Хорош дебют? Долю тут рассказывать нечего. После долгих мучений выяснилось то, что мне давно известно, а многим, к сожалению, неизвестно: для того, чтобы что-то играть, надо это что-то написать. Кратко говоря, писать пришлось мне».
Булгаков писал П С. Попову уже из Ленинграда 26 июня 1934 года: «Я пишу „Мертвые души“ для экрана и привезу с собой готовую вещь. Потом начнется возня с „Блаженством“ (с переделкой пьесы, в результате которой была написана пьеса „Иван Васильевич“). Ох, много у меня работы! Но в голове бродит моя Маргарита и кот и полеты... Но я слаб и разбит еще. Правда, с каждым днем я крепну». Испытывая горечь от только что пережитых разочарований, он, однако, относился не без иронии к собственному поведению и, продолжая письмо Попову, писал: «Люся прозвала меня Капитаном Копейкиным. Оцени эту остроту, полагаю, что она первоклассна» Строка письма замечательным образом реконструирует своеобразную ситуацию — самоописание Булгакова гоголевским словом. Действительно — страницы киносценария, выходившие в это ленинградское лето из-под его пера, на удивление напоминали нечто знакомое, при том что почти буквально шли за гоголевским текстом — рассказом почтмейстера. На экране должен был появиться Копейкин. «Правой руки нет. Физиономия наглая». Копейкин в толпе просителей, которых обходит министр. «Наконец, к Копейкину. Копейкин: так и так, ваше высокопревосходительство, проливая, в некотором роде, кровь... Министр говорит: хорошо, говорит, понаведайтесь на днях». На экране: «Лестница у министра. По ней спускается, приплясывая от радости, очень довольный Копейкин. Швейцар смотрит на него с недоумением». Следующие кадры рисовали картину спустя несколько дней: «Приемная министра. Другие просители стоят, а у индийской вазы опять стоит Копейкин», Министр, который «тотчас его узнал», разъясняет: «Нам нужно будет ожидать приезда государя». Дальше — сцена скандала, Копейкин разбивает вазу, его выгоняют...
24 июля была закончена вторая редакция сценария «Мертвых душ», продиктованная на машинку. В ней сильно сокращена баллада о капитане Копейкине? за счет наиболее картинных кусков (схватки разбойников Копейкина с городским гарнизоном, пожаров в городке, цитированной нами сцены «среди пожарищ» и т. п.); обширная сцена в таможне заменена сценой в ресторации, где под звон гитар и «Черной шали» рождается у Чичикова идея скупки мертвых душ. На машинописном тексте — многочисленные авторские пометы, представляющие собой пометки для доработки и дальнейшего сокращения, сделанные, видимо, во время обсуждения сценария. Третья редакция была закончена 12 августа и в тот же день сдана на кинофабрику. Этап доработки шел напряженно и, по-видимому, уже без охоты. Вскоре сценарий был утвержден; рецензент Главного управления кинопромышленности предлагал «опубликовать сценарий и подвергнуть его всестороннему обсуждению, дав его одновременно для обязательного отзыва ряду специалистов», так как посредством экранизации «десятки миллионов зрителей» будут стремиться «ознакомиться с одним из значительнейших произведений нашей классической литературы». 3 октября другой рецензент выразился еще определеннее: «Экранизация „Мертвых душ“ должна неизбежно сопровождаться преодолением реакционных сторон мировоззрения Гоголя, выраженного в „Мертвых душах“...» Работа над Гоголем, хотя и шедшая с большими затруднениями, — в том числе и работа над киносценарием «Ревизора» с конца августа 1934 года, — отозвалась в других замыслах. Материалы архива писателя показывают, что, сдав в середине июля первую редакцию сценария «Мертвых душ», он берется за роман, покинутый им еще в феврале 1934 года (еще не имевший названия), три дня работает над ним и вновь бросает почти на месяц. На другой день после сдачи третьей редакции сценария, 13 августа, он опять подступается к роману и снова оставляет его на целый месяц, занявшись «Ревизором». Наконец, 10 сентября, на время отложив «Ревизора» (или, может быть, делая сценарий понемногу), Булгаков возвращается к роману и работает над ним более или менее регулярно весь сентябрь. Параллельная работа над произведениями Гоголя и собственным приобретавшим для автора все более важное значение замыслом дала знаменательные результаты
Напомним слова из письма П. С. Попову о «Риме с силуэтом на балконе». Речь идет о картине, заключающей сценарий «Мертвых душ» в первом его варианте:
Окрестность Рима. На большой высоте балкон, обвитый плющом. Розы. Вечереет. Вдали виден Рим, и над Римом последний луч солнца. Балкон уже в вечерних тенях. На балконе виден силуэт человека в темном плаще. Лица человека не видно. Он смотрит на Рим.
Голос: Русь, Русь! Вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека... Открыто, пустынно и ровно все в тебе. Как точки, как значки неприметны среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе?
Рим начинает угасать в вечерних тенях. Исчезает и балкон, и силуэт человека.
Конец.
Во второй редакции сценария, как и в третьей, этой картины, близкой к первым наброскам инсценировки «Мертвых душ» для MXAT, уже нет. Но она возродится — в переоформленном, но узнаваемом виде — через несколько месяцев в другом произведении Булгакова.
В тетради романа, начатой 30 октября 1934 года, появился странно знакомый читателю «гоголевских» текстов Булгакова герой: в комнату Иванушки в психиатрической лечебнице с балкона, «ступая на цыпочках, вошел человек лет 35-ти примерно, худой и бритый, блондин с висящим клоком волос и с острым птичьим носом». И эта последняя черта заставляет узнать в ночном госте того самого человека, который стоит на балконе с 1930 еще года, которому, к печали Булгакова, никак не отыскивается места в составляемых им сценариях.
Вернемся на год назад. 2 августа 1933 года Булгаков писал В. В. Вересаеву: «...Просидел две ночи над Вашим Гоголем! Боже! Какая фигура! Какая личность!» Речь шла, по-видимому, о книге Вересаева «Гоголь в жизни», представляющей свод материалов о Гоголе (писем, воспоминаний, выдержек из дневников современников). О восклицаниях Булгакова — не восхищение творениями Гоголя, а интерес к самой личности.
Сразу вслед за этим Булгаков сообщал: «В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал мазать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман». Не входя в детали многолетней истории писания романа «Мастер и Маргарита», а именно о нем идет речь в письме к Вересаеву, можно отметить, что как раз в это время, в августе 1933 года, в наброске фабулы романа появляется новый герой — «поэт» («Встреча поэта с Воландом»), которого не было в редакциях 1928–1929 годов и первые намеки на которого появились в черновиках 1931-го.
В конце октября 1933 года этот герой определяется как автор романа, совпадающего с «Евангелием от Воланда» (так названа б октября 1933 г. 11-я глава, в которой Воланд, явившись ночью в палату к Иванушке, рассказывает ему историю Пилата, ту ее часть, которая составила впоследствии 2-ю главу печатной редакции романа). «Он написал книгу о Иешуа Ганоцри», — говорит Воланду Маргарита (страница эта пишется 6 января 1934 г.). К моменту завершения этой редакции романа фабульная роль «поэта» видоизменилась — 30октября 1934 года начата тетрадь дополнений, где автор романа о Иешуа Ганоцри появился в палате Иванушки — вместо Воланда. До этого встреча двух этих героев не была предусмотрена. Она повлекла за собой противопоставление «поэта» Иванушки — другому «поэту» (если только сама не была вызвана витком осмыслений вводимого автором противопоставления), — и переименование последнего.
В этом переименовании участвовали, по-видимому, многие воздействия. Слово «мастер» витало и раньше на страницах рукописей Булгакова, как несомненно важное для автора, но всегда — лишь в форме обращения к герою. В романе «Мольер» оно закрепилось за главным героем уже в «Прологе»: «Но ты, мой бедный и окровавленный мастер! Ты нигде не хотел умирать — ни дома и ни вне дома!» Отметим, что слово это выглядит в тетрадях романа как найденное: во 2-й тетради, среди выписок из материалов и отдельных набросков будущего текста, появляются слова — «Бедный мастер» — па пустом месте листа, трижды подчеркнутые. Так впервые, кажется, в творчестве Булгакова ото слово применено к пишущему, творящему (в 1928–1929 гг. так почтительно обращалась к Волапду его свита — совсем иное значение слова).
В сентябре — октябре 1934 года это имя трижды появляется на страницах «романа о дьяволе» (так называется он пока — за неимением заглавия — на страницах дневника Елены Сергеевны) — как обращение Коровьева и Воланда к тому, кого автор по-прежнему называет «поэтом».
Но только на страницах романа, пишущихся, по некоторым данным, не ранее второй половины ноября, герой, называемый прежде в авторском повествовании исключительно «поэтом», появляется в палате Ивана и рассказывает ему, «что, собственно, только один человек знает, что он мастер, но что как она женщина замужняя, то имени ее открыть не может...». На более раннем этапе работы, 7 января 1934 года, герой появлялся в романе не из клиники, а в ватнике и сапогах. Более сильным, чем любое другое, было воздействие на формирование героя, личности и. биографии Гоголя. Именно в 1932–1934-е годы, в годы внимательнейшего изучения Булгаковым творчества Гоголя появляется герой-безумец, иными словами и по мнению общества — сумасшедший!
Мастер — не литератор, не профессионал, но весь поглощен одною целью — написать роман, и в этом смысле он близок к Гоголю последних десяти-двенадцати лет, времени работы над первым и особенно вторым томом «Мертвых душ». Слова Гоголя: «Не знал я, какими путями поведет меня провидение, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека» — кажутся определительными для поведения Мастера. Отношение Гоголя к «Мертвым душам» как откровению близко, как можно.
Мастер, как и Гоголь, был историком, прежде чем стал писать роман; он тоже заболевает — в отличие от Гоголя, успев завершить свой труд. Так же, как Гоголь, он много говорит о своей болезни. Устами Мастера Булгаков-врач с уверенностью ставит диагноз и своему герою и Гоголю непосредственно перед сожжением второго тома поэмы: «наступила стадия психического заболевания». Еще одна параллель: «холодный спрут», подбирающийся к сердцу; «холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили меня до исступления» (рассказ Мастера) — и многократно зафиксированная мемуаристами все усиливавшаяся болезненная зябкость Гоголя и отмеченный П. А. Кулишом страх («Он почувствовал, что болен тою самою болезнью, от которой умер отец его — именно, что на него «нашел страх смерти»). Восклицание Мастера: «Да, хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас!» — очень близко к давней убежденности в особенной своей болезни Гоголя.
Но главное — сам акт сожжения романа. Этот фрагмент фабулы «Мастера и Маргариты» обязан своей разработкой напряженным размышлениям Булгакова-писателя и Булгакова-врача над загадкой трагического финала жизни Гоголя. Сцена сожжения — едва ли не медицинский протокол, клинический анализ того состояния, в котором такой акт производится. И это некая возможная интерпретация состояния Гоголя в момент сожжения рукописей, каким восстанавливается оно по скудным свидетельствам современников. Вот как описывается сожжение романа Мастером: «Я лег заболевающим, а проснулся больным. <...> Я встал человеком, который уже не владеет собой. Я вскрикнул, у меня явилась мысль бежать к кому-то, хотя бы к моему застройщику наверх. Я боролся с собою как безумный. У меня хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали и дверца застучала, мне как будто стало немного легче». Нельзя не увидеть, что дальнейшее описание — в прямой зависимости от картины, нарисованной М. П. Погодиным: «Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук...» Мастер сжигает роман после двух часов ночи, Гоголь — в три.
Общеизвестно, что Мастер во многом списан с самого автора, что в истории травли, истории любви, метаниях и даже депрессии есть много от самого Булгакова. Но не все. Образец сцены сожжения Мастером романа был не только автобиографическим, здесь огромную роль сыграла позиция литературная. И более того, слова «Рукописи не горят» были по отношению к Гоголю полемичны.
Роман «Мастер и Маргарита» представляет собой итог целой писательской судьбы, поднявшейся к таким творческим высям, которые просто захватывают читательский дух своей прозрачностью и необозримыми четкими далями. Этот вершинный период творчества Булгакова (1937–1940 гг.), воспринявший и развивший темы, разработанные в сатирический и особенно в драматический (театральный) периоды, может быть назван не иначе, как трагическим. Произведения, написанные в этот период, показывают тяжкое бремя, которое взяли на себя главные герои. В трагический период писатель выступает всесторонне зрелым художником и трагической личностью, знающей истину и свою судьбу. По христианскому догмату человек, познавший истину, греховен, и крест его тяжек.
Библиография
Гаспаров М. Б. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»//Slavica Hierosolymitana. Ierusalem, 1978
Золотоносов М. «Еврейские тайны» романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»//Согласие. 1991. № 5
Ильинский П. Л. О «Мастере и Маргарите»//Новый журнал. Нью-Йорк, 1987. № 136 (1980)
Немцев В. И. Вопросы изучения художественного наследия М. А. Булгакова: Учебное пособие. Самара, 1999
Немцев В. И. Михаил Булгаков: Становление романиста. Самара, 1991
Немцев В. И. Образы интеллигента и художника у М. А. Булгакова//Sine arte, nihil: Сб. науч. трудов. Белград-Москва, 2002
Петровский М. Мастер и Город: Киевские контексты Михаила Булгакова. Киев, 2001
Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова: Материалы для биографии писателя//Записки отдела рукописей Гос. библ. им. В. И. Ленина. Вып. 37. М., 1976
Чудакова М. О. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»//Вопросы литературы. 1976. № 1
Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988
Чудакова М. О. Пастернак и Булгаков: рубеж двух литературных эпох//Литературное обозрение. 1991. № 5
Чудакова М. О. Пушкин у Булгакова и «соблазн классики»//Лотмановский сборник. М., 1995
Чудакова М. О. Осведомители в доме М. А. Булгакова в середине 1930-х годов//Седьмые Тыняновские чтения. Рига — Москва, 1995–1996
Тема № 245
Эфир 17.04.2003
Хронометраж 50:32
|
 17.04.2003
17.04.2003  50:32
50:32
 Стенограмма эфира
Стенограмма эфира