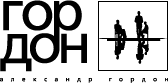| |
 Стенограмма эфира Стенограмма эфира
Хочешь быть свободным — будь им. По мнению Андрея Платонова, залог свободы человека — согласие с совестью. Как удалось гениальному писателю остаться свободным? О том, что такое «народ без языка» и в чем особенности языка самого Платонова, — филологи Наталья Корниенко и Евгений Яблоков.
Программа повторно вышла в эфир 24.07.2003.
Участники:
Наталья Васильевна Корниенко — член-корреспондент РАН, доктор филологических наук
Евгений Александрович Яблоков — доктор филологических наук
Предварительный план дискуссии:
• Можно ли сейчас назвать Андрея Платонова классиком русской литературы 20 века? Каково официальное отношение к нему сейчас? Как складывались его личная судьба и посмертная судьба его произведений?
• Платонов и Революция. Платонов и Сталин.
• Как и зачем уже в перестроечные времена правили тесты Платонова для «широкого читателя»?
• Язык Андрея Платонова как один из его персонажей, как основной индикатор «узнаваемости» платоновского дискурса. Называние персонажа — как один из наиболее выявляемых приемов.
• О диалоге у Платонова. О философичности платоновского текста на всех его уровнях: сюжет, герой, деталь. Язык Платонова и глобальные культурфилософские темы XX в. Диалогичная модель мира Платонова.
• Можно ли назвать Платонова одним из родоначальников постмодернизма?
Обзор темы
Номинально Платонов входит в «обойму» классиков: по крайней мере, в школе его произведения «проходят»; однако уровень понимания проблем явно не адекватен реальности. Так, повесть «Котлован» трактуют обычно как гротескно-сатирическую, антиутопическую, антитоталитарную, антисоветскую. Не то чтобы это было совсем неверно, но этого явно недостаточно. Одна из основных причин методических неудач в том, что выбирается неверный «заход»: игнорируется специфика платоновского языка. Наиболее распространены два типа отношения к Платонову: либо восторженное, либо негодующее. И отношение обусловлено прежде всего тем, сумел читатель «влиться» в стихию языка или нет; «попал» язык Платонова в «резонанс» личности или нет.
Язык — по существу, «главный герой» Платонова.
Платонов — писатель «дискомфортный» для читателя, ибо его язык заставляет одновременно испытывать такие чувства, которые в «обычной» жизни совместить довольно трудно. Поэтому душа читателя просто «не знает», как ей «повернуться» навстречу платоновскому миру, как оценивать изображенные события и персонажей.
Платоновская модель мира внутренне «диалогична». Псевдоним писателя, в частности, указывает на древнегреческого философа — у которого главным философским жанром был именно диалог. «Неправильность» языка Платонова и кажущаяся «хаотичность» художественной формы его произведений создают представление о мире, сокровенная суть которого непостижима — но вместе с тем мир может быть «объяснен» и даже «переделан» едва ли не как угодно по произволу человека. Это мир «податливый» и загадочный в одно и то же время. Один из ярких примеров — эпизод из романа «Чевенгур», в котором вследствие эффекта «испорченного телефона» возникает фраза: «здесь коммунизм и обратно» — т. е. одна и та же ситуация оценивается диаметрально противоположно, но обе оценки одинаково правомерны.
Нередко говорят, что если в юности Платонов призывал «покорять» природу в космических масштабах, то потом все дальше отходил от подобных идей и все больше говорил о «гармонии» с ней. Однако в реальности дело обстояло не так: и уже у раннего Платонова видим две диаметрально противоположных тенденции. Во-первых, звучат призывы к «борьбе» с природой, к ее «покорению», подчинению силой разума и т. п. Но наряду с этим — ощущение сиротства, отчужденности человека от природы-матери; космическое одиночество — и, соответственно, «сентиментальное» стремление «вернуться» в природу, припасть к ней как к утраченной матери. Эта двойственность — изначальная (и она-то во многом и обусловливает «странный» платоновский мир).
Если говорить о традициях, то в первую очередь надо вспомнить Достоевского, герои которого в равной мере приемлют и не приемлют «божий мир» — причем однозначного ответа не дает и сам писатель: в этой «диалогичности» состоит важное свойство и философии, и поэтики Достоевского.
Платонов показывает, что революция во многом сродни религиозному движению. Революционный «активизм» его героев в большой мере обусловлен нетерпением: они не могут удовлетвориться только «наличной» реальностью, только «этим» миром, и мучительно стремятся заглянуть в «потустороннюю» реальность, «за горизонт».
В платоновском мире очень важна экзистенциальная проблема мучительности времени: тут можно сопоставить Платонова с Чеховым, у которого, пожалуй, сильнее других в русской литературе начала XX века воплощена эта тягостность времени, невыносимость его «дления».
Истинное знание о мире (точнее, знание мира, «сокровенное» знание), как оно выстраивается у Платонова, — это даже не религия, если к слову «религия» относиться терминологически точно. Скорее, это напоминает древний миф: человек ощущает родство с миром во всей его «тотальности» — как материальной, так и духовной.
Нельзя сказать, чтобы Платонов был первым, кто пришел к подобным идеям, — даже и в русской литературе (вспомним хотя бы Л. Толстого); но он был первым (и, наверное, единственным) писателем, у кого подобное мироощущение реализовано столь последовательно.
Платонов, «завершивший» эпоху, когда она еще только началась, сегодня по аналогии может быть истолкован как этакий «постмодернист». Однако Платонову «недостает» (и слава Богу!) одного «постмодернистского» качества — именно в силу отсутствия этого качества писатель, умерший в 1951 г., по существу «закрыл» весь постмодернизм уже тогда, когда и слова такого еще не было. Платонов, со своим «корявым» языком, со своей «цитатностью», амбивалентностью всего вообще, «нестеснительностью», которая местами просто-таки изумляет, — никогда не играет. Даже тот факт, что его характеры, ситуации и фразы смешны, ничего не меняет. Автор в произведениях Платонова никогда не «отстраняется» от мира — он всегда «внутри». Поэтому и комическое — это как бы неотъемлемая часть бытия. Поэтому, кстати, и о платоновской «сатире» приходится говорить с большой осторожностью: нередко его отношение к объектам «осмеяния» столь же родственно-сочувственное, сколь и негодующе-уничтожающее.
«Сто лет одиночества» Платонова в нашей культуре... И по-прежнему мы не понимаем Платонова... Вспомните, как платоновский Жмых ездил в Москву, где «видел Ленина и другие чудеса»... В некотором смысле «чудесами» является все, связанное с Платоновым в ушедшем 20 и начавшемся 21 веке. Как он жил?... Сначала писали его биографию в советской парадигматике, затем — в антисоветской. Все — оказалось неправдой... Какая биография, если не освоено наследие Платонова, самое масштабное и уникальное в культуре 20 в.: литературное, киносценарное, научное, философское, техническое, мелиоративное...Чтобы это все освоить — нужен Институт (и социальный заказ общества — а его нет)... Мы очень хотели быстро вписать его в литературный процесс. Платонов же всегда себя аттестовал «пролетарским писателем», без всякой привычной иронии. По нашей логике, он стремился в этот самый процесс, а его не пускали...А в реальности — он особо и не стремился (десятки документов, если их читать, говорят об этом)... Автономность Платонова... ее еще понять надо. Или другой пример? Сколько гневных, насмешливых, иронических слов сказано за последнее десятилетие о коллективных бригадах советских писателей... Вот уж яркий, кажется, пример несвободы и т. п. Что бы написал Платонов о Беломорско-Балтийском канале (куда он, кстати, очень хотел поехать, просил даже Горького, объясняя, что он кое-что понимает в строительстве...), можно догадываться. Ибо известно, что он привез из подобной же коллективной поездки в Туркмению — чудесный рассказ «Такыр» и великую повесть «Джан»... Хочешь быть свободен? Будь им, — вот и все, что нам отвечает Платонов.
Из записной книжки 1922 года: «Свобода живет только там, где человек свободен перед собой, где нет стыда и жалости к самому себе. И потому всякий человек может быть свободным, и никто не может лишить его свободы, если он сам того захочет. Насилие, которое захочет человек применить как будто для удовлетворения собственной свободы, на самом деле уничтожает эту свободу, ибо где сила — там нет свободы, свобода там — где совесть и отсутствие стыда перед собою за дела свои. (Написать книжку „Истинная свобода“)».
Или другая ипостась «чудес» — Как он писал?...Быстро — единственный пока достоверный ответ... Не больше двух-трех недель — повесть, роман «Чевенгур» — самое большое полгода... Многое придумано о языке Платонова, провели уже сотни параллелей, заставили его прочитать невероятное количество книг, которые он физически не мог прочитать. Он ведь не просто выдвинул концепцию «первой профессии» как обязательной для новой литературы, но он ее единственный подтвердил собственной биографией (губернский мелиоратор, инженер-конструктор, изобретатель). И когда Платонов пишет — «искусство пусть родится в свободные выходные дни...», он по сути дела, рассказывает, как и когда он сам писал... Через Платонова — мы учимся понимать сам русский язык. В русской литературе 20 века есть роман «Дар» и есть феномен Платонова — явление могучего и свободного ДАРа...
Только за последнее десятилетие нашей «крылатой свободы» были приняты десятки государственных правительственных решений, так или иначе посвященных писателям 20 в.: открываются музеи, устанавливаются памятники и т. п. Как только ставится вопрос о Платонове, о принятии постановления об увековечении памяти гениального (без оговорок) явления русской культуры — закрываются все двери: министерства культуры, администрации президента и т. д. Что это как непонимание или точнее, особое понимание статуса автора «Чевенгура» и «Котлована»?..
Платонов — не пишет, он создает странные диалоги, которые показывают немоту и глухоту людей, «человеческого материала». Да и люди ли это? Например:
— Раньше были люди, а теперь стали рты. Понял ты мое слово?
— Нет, а чего? — потерялся Дванов. — Всю ночь грелся со мной, а сейчас обижаешься!..
Пешеход встал на ноги.
Вчера же был вечер, субъект-человек! <...> Ведь я вечером стыл, а не утром.
— Пойдем порассуждаем маленько, — сказал Гопнер Дванову. — Мы теперь с тобой ведь не объекты, а субъекты, будь они прокляты: говорю и сам своего почета не понимаю!
Впрочем, живу как субъект, думаю чего-то об одном себе, потому что меня далеко не уважают. — диалог в письмах
— Тут коммунизм, — объяснил Копенкин с коня. — А мы здесь, товарищи, потому что раньше жили без средств жизни. А ты что за субъект?
— Я тоже коммунист, — дал справку Сербинов...
На полях многих рукописей Платонова рядом с замечаниями, вопросами, правкой редакторов можно встретить лаконичные записи: «Если будете править — не надо пускать. Платонов»; «Прошу оставить по моему. Платонов»; «Прошу оставить как есть. А. П.». Иногда «А. П» оставлял на полях и убийственно-иронические оценки редакторским посягательствам на его творение, типа: «Очень умно и поучительно, но не вполне достаточно»; «Естественно будет так». Этот акт авторской воли предопределил прижизненные судьбы многих произведений Платонова: пройдя по редакциям и издательствам, они обретали новую — авторскую редакцию и чаще всего уходили в стол писателя. Так было с «Антисексусом», «Эфирным трактом», «Чевенгуром», «Джан», «Ювенильным морем», «14 Красными избушками». Подобная же участь постигла и повесть «Котлован». В феврале 1932 года на вечере Платонова во Всероссийском союзе писателей критик В. Гольцев, рассказывая о чтении «Котлована» в редакции «Новый мир», так резюмировал впечатление о повести: «Эта вещь поразила меня своей законченностью». Повесть действительно к этому времени, обретя новую, законченную, редакцию, заняла прочное место среди тех произведений Платонова, о которых он сам скажет в 1932 году, как о «неизданных вещах, в которых, по существу, и заключалась моя литературная работа». В пору возвращения наследия Платонова в 60-е годы «Котлован» относился к тем произведениям писателя, которые были запрещены к выдаче даже исследователям, работавшим в фонде Платонова в Центральном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ, сейчас — РГАЛИ). Опубликованная впервые на Западе сначала в журнале «Грани», затем в издательстве «Ардис» (1973) повесть в этой версии и вернулась в Россию, прочно обретя себя в самиздате. Первая официальная публикация «Котлована» в России отличалась тем, что основной текст повести был сопровожден приложением — «несколькими фрагментами, опущенными автором в процессе... правки» и указанием на то, что послесловие (эпилог) повести входил в ее рукописную редакцию («Новый мир», 1987, № 6). И откуда было знать читателю, что эпилога не было в рукописи повести и поэтому Платонов не мог его опустить, что появился эпилог только при работе писателя с машинописью «Котлована». Открытые для работы с 1988 года в РГАЛИ и Пушкинском доме (Санкт-Петербург) авторизованные машинописи «Котлована» заставили усомниться в подобной сочиненной истории текста повести. И прежде всего потому, что с деятелями политической истории России, именами вождей, произошла грандиозная путаница, к которой писатель не имел никакого отношения. Начиная именно с «Котлована», при издании всех произведений Платонова 30-х годов, властно действовала чевенгурская логика: почти по «регистру переименования» героев «Чевенгура», мучительно выясняющих вопрос «были ли Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за образцы дальнейшей жизни, или Колумб и Меринг безмолвны для революции», была произведена тотальная замена Сталина на Ленина: «В современных изданиях Сталин везде заменен на Ленина, а там где в тексте появляется только Ленин, сделаны купюры. Исчезли из «Котлована» и попытки Насти, ученицы Сафронова и Чиклина, связать имена Ленина и Сталина. Причем правка в авторизованной машинописи, по которой впервые и публиковавался «Котлован» на Западе, а затем — в России, не принадлежит Платонову (поздний характер правки, по которой впервые и печаталась повесть на Западе, подтверждает шариковая авторучка и то, что правка сделана не рукой Платонова). В изощренной и тщательной правке текста «Котлована» начала 70-х годов запечатлелся широкий комплекс идей этого времени: от «социализма с человеческим лицом», противопоставления Ленина Сталину до либерально-демократических и диссидентских представлений об историческом пути России.
В чистке «Котлована» чувствуется несколько линий: 1. Нейтрализация моделей синкретического восприятия вещественной и невещественной ипостасей жизни человека и мира, что вело к повсеместной замене глаголов и управляемых ими существительных, не предусмотренных нормативным употреблением: «...Козлов сел... и пригорюнился руками к костяному своему лицу» (стало: «дотронулся»); «...Жачев почему-то почувствовал аппетит увидеть Никиту Чиклина» (стало: «почувствовал желание»); «Девочка дунула в лампу и прекратила свет» (стало: «потушила»); «...Вощев делал гуляние мимо людей» (стало: «гулял») и т. д. 2. Удаление избыточных определений и характеристик, не предусмотренных нормой: «Вощев смирно не двигался»; «... полил их жидкостью яйца» (стало: «яйцами»); «...инженер сейчас вежливо улыбался навстречу артели мастеровых» (стало: «мастеровым»); «... весь в крупных текущих слезах», «У нас с тобой был один и тот же женский человек»; «...купил для Жачева буфетных продуктов...»(стало: «в буфете») и т. д. 3. Разрушение иерархической последовательности и параллелизма вводимых в фразе понятий и представлений, которые придают поэтическую завершенность платоновской фразе, рождая у читателя эффект метафоры жизни: «Каждая девочка... улыбалась от сознания серьезности сжимающейся в ней жизни»; «Одна пионерка выбежала из рядов <...> и там сорвала потребное себе растение». 4. Повсеместная замена или исключение физиологизмов, вульгаризмов, ненормативной лексики, а также натуралистических выражений: «пролетариат живет один, как сукин сын»; «В кабинет Пашкина вошла его супруга, — с красными губами, жрущими мясо» (стало: «жующими») и проч. 5. Приведение фразы к нормам грамматического управления, что вело к смысловому искажению. Так знаменитые видения Прушевского возникают вполне мотивированно и психологически и философски, ибо у Платонова мы читаем: «В свои прогулки он уходил далеко в одиночество». Редакторский вариант — «далеко, в одиночестве» — ложно психологичен, не более. Такая же правка проведена и в вопросе Насти: «А зачем ты меня носишь, где четыре времени года?»: разбив это одно предложение на два самостоятельных вопросительных, упростили смысл онтологического и гносеологического содержания, заключенного в экзистенциальном вопросе Насти. Пострадала и написанная несколькими штрихами жена Пашкина: у Платонова она — «... выдумала мысль во время семейного молчания»; под пером редактора получилось: «...она выдумала во время семейного молчания вот что».
В предельно политизированном сознании России конца 80-х — начала 90-х годов, вернуть «Котлован» к авторскому оригиналу было очень непросто.
Характер редакторских посмертных исправлений текста «Джан» в общем тот же, что и в «Котловане» — цензурно-охранительный и нормативно-унификаторский. Политическая, идеологическая правка относится к теме Сталина, достаточно развернуто присутствующей в повести (Сталин заменен на Ленина, на «большой народ», «ЦК»; там, где замена не найдена, скажем, внутренние монологи Чагатаева, сделаны купюры и т. д.). Очень сильна и стилистическая правка, приводящая к искажению своеобразного стиля Платонова и, следовательно, — к изменению смысла. Особенно пострадал при правке народ джан: сняты фрагменты, которые якобы отличаются излишним натурализмом; стихия многоголосия и поток сознания умирающего народа насильственно были превращены в диалоги, т. е. порче подвергались глубинные пласты содержания и стиля повести и т. д. Повесть своеобразно готовилась издателями для ее интерпретации, введения в привычные контексты смыслов — судьба Востока и западной культуры, синтез европейского мифа о Прометее с азиатским мифом, современный советский Прометей и гуманист Назаре Чагатаев и преобразование темного туркменского народа и т. д. Повесть же имела в авторской — платоновской — редакции прямо противоположные установки, которые гасились или уничтожались редакторами при правке.
Многие важные для платоновского народоведения вопросы родовой стихии жизни народа, охранительные механизмы жизни в чужой культуре даются и в повести «Джан» без привычной европейско-гуманистической рефлексии — эти значные для восточной повести натурализмы и физиологизмы тщательно убирались редакторами по всему тексту повести (здесь и далее изъятые фрагменты обозначены в нашей статье полужирно курсивом):
«...она улыбалась ему жалкой улыбкой маленькой первоначальной женщины»;
«...мать Назара подняла руки, точно готовясь к тайному танцу, танцу закрытых женских помещений»;
«Женщины, как самые большие труженицы, умирали прежде всех, а оставшиеся в живых рожали детей очень редко, хотя Чагатаев слышал иногда по ночам сон супругов и их любовь, добывающую детей из бедности своего тела»;
«Чагатаев шел всю ночь <...>, шел по чувству. Он не пил вторые сутки и жалел, что не выпил немного крови из тела Назар-Шакира: все равно человек мертв, а кровь еще цела в нем, она сейчас свежа и холодна».
Народоведческие установки стиля повести явно хранили в себе и жесткость полемики Платонова по отношению к законодателям восточно-азиатской темы в советской литературе — П. Павленко («Путешествие в Туркменистан»), Н. Тихонову («Кочевники»), В. Луговскому («Большевикам пустыни и весны»). «Всю Бухару надо срыть и отправить на утиль сырье для рассыпки, как удобрение... в этих песках нет ничего, что можно взять для завтрашней жизни» (П. Павленко) — подобные картины опустошительного «чевенгурского» разрушения Востока в советской литературе отзовутся в поэтической ткани «Джан», которая в буквальном смысле пульсирует неприятием подобного «цивилизованного» взгляда. Платоновское — «пустыня ведь не пустая, в ней вечно люди живут» — полемически адресовалось и собратьям-писателям картинами особого мира Востока, воссозданными на страницах «Джан» — с каракуртом. «глядящим из колодца-норы парой ясных глаз», с «великим внутренним достоинством терновника», с «беззвучными растениями»...
Дерзкий вызов был брошен всей советской литературе и «новым человеком» Назаром Чагатаевым, который вспоминает мир и язык культуры материнской родины. Эти страницы вспоминания, составляющие центр и стилевое энергетическое ядро повести, деформировались редакторами достаточно жестоко, ибо за ними просвечивали запрещенные десятилетиями в СССР страницы одного из документов 1 сьезда советских писателей, который состоялся в августе 1934 года (Платонов не принимал участия в работе первого сьезда писателей, в дни сьезда он добивался через правительство Туркменистана возможности новой поездки в республику). Три писателя — Достоевский, Пруст и Джойс — были объявлены съездом, давшим определение «социалистического гуманизма», «изменниками» дела революции. В докладе партийного функционера К. Радека «Современная литература и задачи пролетарского искусства» давалось идеологическое обоснование авторитетно-монологического стиля советской литературы как новой мировой художественной формы, смысл которой явственно прозвучал в риторическом вопросе — «Джемс Джойс или социалистический реализм?» (название одного из разделов доклада). Почему Пруст и Джойс так беспокоили партийных лидеров? Потому, отвечает Радек, что они идут за Достоевским, потому что их интересует не общий масштаб, а «день героя», поток сознания его мысли: «Мысль цепляется за мысль; если она ведет в сторону, автор бежит за ней». Повесть «Джан» запечатлеет именно поток сознания героя и народа — это была сознательная реакция и установка Платонова, о чем свидетельствует и рукопись повести.
В чем же смысл всего текста, одного текста или всех вместе взятых — для Платонова это не так уж важно... Очень важной для него оказывается тема Сталина и нового «народа», темы, над которыми с инквизиторской тщательностью работали редакторы, запутав исследователей Платонова во всем мире и создав богатое поле для интерпретации несуществующих финалов повести «Джан», да и многих других текстов. Каков же финал у Платонова? Выбор Платоновым формулы и вектора движения героя повести Назара Чагатаева происходил в 1935 году в поле смыслов незавершенного московского романа «Счастливая Москва». В черновом списке персонажей повести, где около каждого имени стоит его происхождение, национальность, рядом с фамилией Чагатаев Платонов запишет «выдуман<ное>». Оставленный родными матерью и отцом, Назар подчеркнуто выключался Платоновым из поля национальных традиций как русской, так и туркменской культуры, и подключался писателем к величайшей трагической судьбе «прочих», сирот и изгоев, «Чевенгура», жизнь которых превратилась в «безотцовщину», ибо нет у них «отца», «первого товарища», «который бы вывел их за руку к людям, чтобы после своей смерти оставить людей детям в наследство — для себя» («Чевенгур»). Назар, как и герои московского романа, обрел в Сталине утраченного отца, как символ новой цивилизации, нового миропонимания, нового центра мира. Примечательна и запись Платонова о Сталине в одном из первых набросков к «Джан»: «Он (Сталин) стал больше природы. Она, создав его, допустила свободу, а он захватил ее и стал на ее место, заместив и усовершенствовав ее». Платонов в «Джан» выходит к исследованию и по-своему к испытанию фундаментального центра и символа советской цивилизации — образу Сталина, с которым связан и путь Назара на родину и его модель реформирования религиозного идеала человека (страдания Веры) и народа — «классовой» необходимости «одоления духа святого». В этой логике приход в мир Аримана (сатаны) представляется не катастрофой, а раем, устанавливающимся на земле. Отсюда и провозглашение в качестве нового пророка социалистического царства «отца Сталина». Замена редакторами Сталина на Ленина, уничтожение «сталинских» внутренних монологов Чагатаева радикально деформировали смысл повести о диалоге-борьбе трех языков — языка советской цивилизации, языка Азии и языка русской классической литературы. Практически на погашение этого смысла сработала и первая публикация повести «Джан» в 1964 году, в которой был отсечен подлинный финал повести.
Написанный Платоновым в 1935 году финал «Джан» своеобразно восстанавливал пафос финала запрещенного «Чевенгура» и предвосхищал странный финал «Счастливой Молсквы». В финале «Чевенгура» Платонов заставит заплакать самого крутого идеолога и рационалиста Прошку Дванова, заплакать — «среди всего доставшегося ему имущества». Уход Прошки на поиски неродного брата Саши, уход по собственному велению души — «Даром приведу Сашу, — пообещал Прокофий и пошел искать Дванова» — возвращал одного из идеологов русского «царства безотцовщины» на ту дорогу жизни, по которой шли в обретении неба и дома герои романов Толстого и Достоевского. В финале «Счастливой Москвы» Платонов остановит повествование на немоте героя, «крае безмолвия», где открываются «рациональному практику» Сарториуса вечные, не отменяемые историей, временем, а потому и больные вопросы жизни. В финале повести «Джан» народ покидал пространство общего «сытного» дома, не пожелав воспользоваться социальными призывами Назара, покидал в поисках своей доли, а Назар и Айдым возвращались в Москву. Этот своеобразный двойной финал, представляющий одну из постоянных глобальной и одновременно лирической поэтики платоновского текста, восстанавливал жизнь народа и человека, личности, в их глубочайшей тайне и сокровенности, тайне свободного выбора своего пути — финал, как всегда у Платонова, жесткий и открытый. Трижды правил Платонов последнюю фразу повести: «Чагатаеву всегда казалось, что помощь к нему придет лишь от другого человека»: «Чагатаеву показалось сейчас, что помощь к нему придет лишь от другого человека» (первые редакции). И окончательный вариант, с обозначением перевала в сознании героя повести, перевала, к которому его привела встреча с родным народом: «Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет только от другого человека». Фраза, смысл которой разрушает ту идеологию жизни, с которой выступал герой в первой — московской — главе повести, фраза, смысл которой уничтожал идеологическое ядро советского романа 30-х годов, где главным было движение героя от «частного» к «общему», от «бессознательного» к «рациональному», от чувства к долгу. Назар же формулирует всей своей дорогой спасения народа идею спасения-любви человека в мире, идею «дома» Назара и Ксении, в котором спасается от повторения пути Насти из «Котлована» девочка-сирота Айдым. Этот финал Платонов не трогал ни на одном из дальнейших этапов работы над текстом повести в 1935 году. Он его, можно сказать, даже усилил при доработке повести.
Платонов пишет «вставку» на 46 страницах. Во-первых, он вернет народ джан на его историческую родину, однако вернет с убеждением, что главное богатство мира это душа, «способность чувствовать и мучиться». Именно на данном этапе работы с рукописью появится и сноска к повести: «Джан — душа, которая ищет счастье (туркменское народное поверье). — Примеч. автора». Во-вторых, он усиливает психологическую и метафизическую мотивировку московского комплекса идей Назара Чагатаева, связанных с «отцом Сталина». Платонов работает с этой темой не как публицист, а как художник, тщательно отслеживая микроскопические уровни движения человека-сироты к обретению «вечного» отца. Из двух написанных внутренних монолов Чагатаева, посвященных Сталину, Платонов оставляет только один — о Сталине как творце «целого человечества».
Второй монолог о Сталине как спасителе человека, явно диссонирующий с уже написанным финалом повести, Платонов вычеркивает уже в рукописи: «Чагатаев давно уже жил чувством и воображением Сталина, сначала он любил его нечаянно и по-детски за то, что он стал есть пищу в детском доме, что служащая воспитательница любит его больше матери, потом он узнал Москву, науку, весь мир, и почувствовал Сталина сознательно. Без него, как без отца, как без доброй силы, берегущей и просветляющей его жизнь, Чагатаев бы не смог спастись тогда, ни вырасти, ни жить теперь: он бы смутился, ослабел, замер и лег в землю вниз лицом».
Эти монологи — своеобразные взрывоопасные и сгущенные платоновские метафоры — версии к тупиковому финалу московского романа. Их важность для писателя подтверждают и одноактные пьесы 1936 года, в которых тема родных «отца-матери» и «отца Сталина» становится сюжетообразующей: «Голос отца» («Молчание») и «Отец-Мать» («Отец»). Пьесы, написанные в то время, когда окончательно был решен вопрос с публикацией повести «Джан» — не печатать. Прижизненные редакторы внимательно прочитали повесть не по фабуле, а, можно сказать, по платоновскому стилю и по названию, смысл которого он еще раз подтвердит в статье «Пушкин — наш товарищ»: «... у народа своя политика, своя эстетика и свое большое горе» (статья написана в 1936 году, опубликована — в 1937). В этой достаточно жесткой формуле народности узнается и путь «кротких» чевенгурцев, и путь бессмертного народа джан.
Посмертное разрушение текста «Джан», вырезывание из текста повести и искажение достаточно непростого платоновского решения сталинского мифа в культуре ХХ века, безусловно, определялось теми же обстоятельствами, что и редакторская правка текста «Котлована» — ввести Платонова в привычные тематические рамки советской литературы, дозволенные либерально-демократической идеологией и фразеологией 60-х годов. Но явно, что в исследовании тематики тоталитарного общества Платонов далеко обошел не только своих современников, взяв тему сталинского мифа как явление не политическое, а явление глобального кризиса в русской и европейской культуре ХХ века. Повесть, предвосхитившая многое в мировой литературе ХХ века, в частности, такое явление как латиноамериканский роман второй половины ХХ века, на десятилетия ляжет в архив писателя. Редакторские ножницы 60–70-х годов, конечно, не смогли до конца уничтожить текст повести, однако, существенно деформировали смысл художественного открытия Платонова 1935 года.
Библиография
Андрей Платонов: Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994.
Андрей Платонов: Мир творчества. М., 1994.
Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. Париж, 1982; 2-е изд.: М., 1999.
Дмитровская М. А. Макрокосм и микрокосм в художественном мире А. Платонова. Калининград, 1998.
Корниенко Н. В. История текста и биография А. Платонова: 1926–1946//Здесь и теперь. 1993. № 1.
Лангерак Т. Андрей Платонов: Материалы для биографии 1899–1929 гг. Амстердам, 1995.
Ласунский О. Г. Житель родного города: Воронеж, годы А. Платонова. 1986–1926. Воронеж, 1999.
«Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. М., 1989–2000. Вып. 1–4.
Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. СПб., 1995–2000. Кн. 1–2.
Творчество А. Платонова: Статьи и сообщения. Воронеж, 1970.
Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. М., 1987.
Яблоков Е. А. На берегу неба: Роман Андрея Платонова «Чевенгур». СПб., 2001.
Essays in Poetics//Keele Univ. 2001. V. 26 (Andrei Platonov: Special issue).
Sprache und Erzählhaltung bei Andrej Platonov. Bern, 1998.
Тема № 173
Эфир 21.11.2002
Хронометраж 49:48
|
 21.11.2002
21.11.2002  49:48
49:48
 Стенограмма эфира
Стенограмма эфира