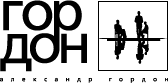gordon0030@yandex.ru
Технология творчества: Бакши
 11.02.2003
11.02.2003  50:30
50:30
Что такое Театр Звука и в чем его отличие от традиционных статусных жанров: оперы, оперетты, мюзикла? Как можно построить театр, в котором персонажи обмениваются не репликами, а интонациями, а любой звук — шарканье ногами, покашливанье, становится музыкальным сопровождением действия? И возможно ли действие, если у него нет сценария, либретто, краткого изложения содержания? О поисках иных форм бытования музыки в пространстве разноликой полифонии мира, — в цикле «Технология творчества» композитор Александр Бакши.
Участник:
Бакши Александр — композитор
Материалы к программе:
Александр БАКШИ — композитор, лауреат Государственной премии России (1994). Окончил Донскую консерваторию (1977). В его творчестве последовательно развиваются идеи синтеза театра и музыки, ищется новый жанр, подобный опере или балету, но вне литературного сюжета. Традиционные музыкальные жанры и формы (концерт, соната, трио и т. д.) в театральной трактовке превращаются в маленькие спектакли или драматические сцены, где музыканты являются персонажами и действуют в
Совмещение принципов инструментального театра и драматического развиты в целом ряде спектаклей, в том числе «Нумер в гостинице города NN» по Н. Гоголю (ЦИМ), «Превращение» по Ф. Кафке (ЦИМ совместно с театром «Сатирикон»). «Еще Ван
Ряд пьес «театра звука» — «Умирающий Гамлет»,
Музыка Ал. Бакши исполняется в крупнейших концертных залах и на фестивалях Европы и Америки.
Основные сочинения:
«Полифония мира» мистерия для скрипки соло, струнного оркестра, ансамбля ударных, медных духовых, исполнителей этнической музыки и джаза, смешанного хора (Москва, 2002).
«Орфей» концерт для скрипки соло и струнного оркестра (Таллинн — Рим, 2002).
«Игры в инсталляциях» для того же состава по мотивам русского авангарда начала XX века (Рим,1993 г.).
«Зима в Москве. Гололед...» для скрипки, виолончели и струнного ансамбля (Италия, г. Иврея, 1994 г.).
«Сцена для Татьяны Гринденко и скрипки»
«Концерт Шостаковича для скрипки с оркестром» (Петербург, 1996 г.).
«Он и Она. Пьеса для скрипача и скрипачки» (Австрия, Локкенхауз, 1997 г.).
«Умирающий Гамлет. Шекспир концерт для скрипки с оркестром»
«Я — поэт...»
Драма для скрипки, виолончели и рояля (Ростов-на-Дону, 1977).
Мемуары. Детство. Для приготовленного рояля. (Ростов на Дону. 1983). Посвящается Г. Канчели.
Соната для голоса и рояля (Москва, 1988).
Сцена для певицы и пианиста. 23/6 (МоскваД989) Для ансамбля ударных.
А также камерные инструментальные, вокальные, хоровые сочинения, музыка к к/ф и спектаклям (свыше 30 работ).
Из статьи А. Бакши «Мой театр»:
Я — театральный композитор и всё, что я делаю, связано с идеей Театра Звука. Это — довольно условное понятие, означающее не жанр, а свободную нежанровую область диалога между театром и музыкой. К Театру Звука могут относиться и миниатюры, и большие спектакли — размеры не имеют значения. Но если нельзя говорить о четких жанровых законах, то о закономерностях говорить можно.
В опере даже самый плохой певец значимей самого хорошего пианиста или скрипача. Певец — носитель слова, театральный персонаж, через него развивается сюжет. А любой инструменталист — всего лишь аккомпаниатор. Господа на сцене, слуги в оркестровой яме... В Театре Звука нет этой иерархии, все являются персонажами, и никто никому не аккомпанирует.
В Театре Звука нет также и литературы — никаких сценариев, либретто, краткого изложения содержания. Это, конечно, не означает, что отсутствует сюжет. Но он излагается музыкальными и пластическими средствами и не переводится на понятийный язык. Литература для меня не поле притяжения, а точка отталкивания. Я отношусь к литературному произведению как к мифу, который можно дофантазировать,
Другая важнейшая особенность Театра Звука — отказ от классического плоскостного пространства в рамках сцены.
Пространство в рамке сцены — иллюзорное, поскольку лишено реального объема. Соотношение далеко — близко здесь изображается символически как тихо — громко. А высоко — низко как соотношение высоких и низких регистров. Голоса исполнителей в плоскостном пространстве сливаются в созвучия или аккорды. И вне зависимости от того, чего больше в музыке — кластеров или трезвучий, в плоскостном пространстве вертикаль преобладает над горизонталью. Поэтому главной заботой становится акустическое выравнивание разно звучащих инструментов и голосов. На определенное количество скрипок в оркестре приходится определенное количество духовых.
В объемном пространстве Театра Звука исполнители могут располагаться в любой точке зала — на сцене, рядом со зрителем, за ним, над ним и даже под ним. Это дает возможность слышать одновременно несколько разных музык, которые могут идти в разных темпах, с разной динамикой и т. д. Голоса не сливаются и возможна разнотемная полифония.
В объемном пространстве нет и не может быть оркестра и палочной дисциплины дирижера. На смену принципу дирижирования, когда музыкальный процесс управляется волей одного человека, приходит принцип режиссуры. Т. е. музыканты разыгрывают партитуру так же, как актеры разыгрывают пьесу по ролям. Таким образом, для Театра Звука самыми существенными понятиями являются интонационное действие и
Из интервью Александра Бакши «Настоящее искусство всегда сиюминутно («Независимая газета». 1996 г.):
Сегодня устарела сама идея концерта, когда музыкант может выйти на сцену и
А. Бакши о своих произведениях:
В
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР. Это театр живого звука, где инструменталист или певец — актер, играющий сам себя, а не литературного героя. Здесь есть понятие звуковой мизансцены — ближние и дальние планы, звуковая полифония в пространстве. Весь «сюжет» излагается актером-музыкантом через звук.
Если перевести на язык понятий музыкальный сюжет моей «Драмы для скрипки, виолончели и рояля», то это — дуэт согласия скрипки и виолончели, в который вклинивается рояль и его разрушает. Подтекст этой фабулы в том, что музыкальная природа этого ансамбля (трио) внутренне конфликтна: скрипка и виолончель инструменты одного семейства, а рояль другого.
Сюжет
Что разочаровало? Этот ход в условиях небольшой пьесы оправдан и вполне осуществим. Такие пьесы могут быть острой приправой в обычном концертном меню. Но когда на этой основе создается спектакль, то выясняется что вне целостной литературной драматургии он распадается. А музыкант, становясь героем, попадает в русло традиционной романтической эстетики и в конце концов становится литературным персонажем.
Т.е., став автором крупных сценических работ, я понял что они модулируют в те принципы романтизма, которые себя изжили и от которых я хотел уйти.
Из статьи Людмилы Бакши «Домашний театр, или Полифония мира»:
В эпоху противостояния «традиционалистов» и «новаторов» эта музыка не вписывалась ни в тот, ни в другой лагерь. Традиционалисты воспринимали ее как явный авангард и по языку, и по композиторской технике, а авангардисты, в свою очередь, чувствовали чуждый им дух неэлитарности, сомнительного демократизма, наглядной и вызывающей конкретности.
Когда в
Если вдуматься, концерт — музыка, взятая в рамку сцены и ставшая сама по себе объектом поклонения. Это всегда монолог приподнятого над толпой гения. Трибуна, с которой изливаются в зал лирические откровения и пророчества боговдохновенных. Ибо прекрасное — это божественная истина, к которой можно только приобщаться, молча внимать... Прекрасное спасет мир... Гений и злодейство — несовместны... Художник — существо надмирное, он — служитель...
В самой форме заложен романтический круг идей, который можно развивать лишь до
Концерт — романтический театр звука, где вместо персонажей действуют, конфликтуют, участвуют в перипетиях сюжета музыкальные темы: Любви и Смерти, Добра и Зла, Рока и Бессмертия... Высшие достижения европейского искусства — театральные жанры: опера, балет. Но и симфония, и соната — по сути театральные пьесы без слов. (Об этом написала замечательную книгу «Театр и симфония» музыковед В. Конен.) Они возникли на гребне развития определенного исторического периода как обобщение театральной драматургии.
Конечно, слушатель ни о чем таком на концерте не думает. Да и автор тоже. Но ведь сила моделей в том, что их не осознают, что они кажутся естественными и единственно возможными, как солнце, восходящее на востоке. И все институты, возникшие в последние двести лет — консерватории, филармонии, творческие объединения и т. д., — направлены на удержание этих завоеванных романтизмом позиций. Несостоятельность романтической мифологии в XX веке, особенно после войны, стала очевидной для всех. Но оторваться от нее оказалось не так просто. Как расстаться с идеей, что творчество — это особая миссия, а художник, самовыражаясь, служит великому делу?
Авангард не отказался от идеи самовыражения Автора и довел ее до предела, до бессмыслицы. Автор создавал свой мир, говоря на своем особом, уникальном языке.
Хватит ностальгии! Настоящее искусство может быть только в настоящем времени. Нам казалось, что только театр дает эту возможность. Так хотелось точного образа, действенной интонации, диалога с публикой! Так хотелось воздуха жизни! Живой человек в конкретных обстоятельствах — в этом, а не в другом зале, в этом времени, сегодня, сейчас, а не вообще.
Мы думали о другом музыкальном театре, о театре звука.
«Я мечтаю о театре, где действующие лица — певцы и музыканты, а не поющие брунгильды, татьяны и донжуаны. Соединить музыку и театр без посредства литературы, чтобы звук не выражал прямо слово, чтобы певцы не напрягались, натужно изображая в речитативах естественность человеческой речи.
«Так хочется правды!..» — писал Александр Бакши.
Театр не создается в одиночку — это всегда коллективное творчество. Речь, конечно, шла не о создании постоянной труппы, а о единомышленниках — музыкантах, способных изменить привычкам концертирующих исполнителей. Это и другая форма существования на сцене, и особый репетиционный процесс. И, кроме того, опасность неадекватной реакции публики; любое нарушение ритуального поведения музыканта на сцене чаще всего воспринимается как пародия и гротеск. Людей, способных на такой эксперимент, было наперечет. Соавторами были все, с кем создавались маленькие и большие работы, — Марк Пекарский и ансамбль ударных, Татьяна Гринденко и Академия старинной музыки, Гидон Кремер и «Кремерата Балтика».
Главный принцип театра звука состоит в том, что музыка не пишется для скрипки, рояля или певца. На свете не найти двух одинаковых исполнителей — они разнятся всем характером интонирования, манерой ходить, шуршать нотами, покашливать... Музыка пишется для конкретных людей.
В Театре звука Ал. Бакши нет слова. Литература не поле притяжения, а отправная точка. То есть этот театр начинается там, где литература заканчивается, К пьесам и романам он относится как к мифам, которые можно продолжать
Театр звука отличается от концерта не только формой, но и идейной установкой. Музыка в рамке сцены — не просто определенным образом организованное пространство. Это материализация определенного взгляда на мир.
Последние несколько столетий в музыке развивался процесс превращения реального пространства в иллюзорное. Музыканты играют со сцены, из одной точки. То есть звуковое пространство — плоское, оно не имеет измерений: далеко — близко, высоко — низко. Ощущение глубины создается за счет подмены соотношений «далеко — близко» на громко — тихо (эффекты эха, приближения, удаления). Соотношение «высоко — низко» воссоздается символически. Высокие голоса, флейты, скрипки и т. д. символизируют высоту, верх, небо. Басы, контрабасы, туба и т. п. — низ, землю, подземный мир. Когда Сергею Прокофьеву понадобилось в кантате «Александр Невский» изобразить мертвое поле, он убрал из оркестра весь средний диапазон, оставив только крайние высокие и басовые звуки. Только земля и небо, а жизни — нет.
Иллюзорное пространство в музыке в
Плоскостное пространство — порождение идеи Гармонии мира: упорядочить разнообразие, свести разноголосицу в созвучие, в аккорд. При этом свободное течение голосов подчиняется единому ритму и иерархии соотношений «благозвучие — неблагозвучие» (консонанс — диссонанс).
Симфонический оркестр — это модель мироустройства. На протяжении последних двух веков он постоянно расширялся, включая все новые инструменты из разных стран. Но неизменно европейские скрипки оставались в центре, а на задворках — африканские и азиатские сакральные барабаны. Оркестр превратился в гигантскую палитру, на которой есть все краски. Но картину рисует Автор — композитор. Он создает систему конфликтов и противоречий, он управляет процессом и волнами движения. Он структурирует течение времени. Он, наконец, носитель высшей миссии, пророк и вершитель. За этим подходом явно угадывается безумное желание европейца объять весь мир, управлять всеми контрастами и конфликтами из единого центра и подчинить их единому закону. Но нельзя объять необъятное.
Оркестр — наиболее яркий пример европейской идеи Гармонии мира, которая в XX веке стала себя изживать.
А. Бакши о «Полифонии мира»:
В «Полифонии мира» нет литературного либретто и почти нет слов. Драматургия складывается из взаимоотношений персонажей, которые говорят на разных музыкальных языках. Авторская музыка сочетается с традиционной этнической, фольклором, шаманскими акциями и джазом.
Мистерия — о поиске общности между людьми разных культур.
Столетиями человечество жило европейским идеалом ГАРМОНИИ МИРА, общего ПОРЯДКА свести разноголосицу в аккорд, многообразие свести к единству. Это вдохновляло не только создателей симфоний, но и создателей империй. Символ европейской музыки — оркестр: в центре — скрипки, а на задворках — сакральные азиатские и африканские барабаны. Оркестр — образ несвободы, потому что альтернатива диктатуре дирижера — хаос.
Последняя из империй распалась на наших глазах и определила наши судьбы. Может быть, поэтому среди исполнителей преобладают выходцы из бывшего СССР: мы тоскуем по нашим корням — культурной общности, откуда мы родом.
На рубеже веков формируется новое мышление. Суть его — в осознании ценности и равенства всех человеческих культур. На смену ГАРМОНИИ МИРА приходит ПОЛИФОНИЯ МИРА. Но модель её еще не сложилась. Казалось бы, просто следовать примеру природы: звуки весеннего леса часто называют «гармоничными», но голоса зверей и птиц объединяет не учение о консонансе, а общность обстоятельств — греет солнце, идет дождь... Чтобы ощутить единство жителей такой маленькой планеты, не обязательно всем петь одну песню. Достаточно почувствовать, что мы ходим по одной Земле. Однако люди живут не только в природе, но и в истории, и в культуре. И то, и другое разъединяет...
Сюжет Мистерии основан на идее, общей для всех народов: звук рождается из воздуха и связан с Духом. Он как невидимая нить соединяет человека с Небом. На эту тему есть много мифов, и все они — о тайне Бытия. У людей нет общих слов и понятий, чтобы говорить на эту тему. Но есть Звук и Небо — одно на всех.
Из статьи Т. Чередниченко «Музыкальный запас: Александр Бакши»:
Авангард умер. Что шокировало в
Одним из направлений радикального послевоенного авангарда был инструментальный театр. Сегодня его эстетика используется лишь фрагментарно, в качестве эффектной приправы, да и мало кем. Есть, кажется, лишь один композитор, и в
Если благодаря такому упорству возникает
До XX века отношения зримого и слышимого в музыке, как правило, не сочинялись. Ревизия традиционного понятия музыки, которая началась в XX веке, заострила внимание композиторов к неприметному, «само собой разумеющемуся» в их искусстве. Проблемой стало и соотношение видимого пространства исполнения и слышимого времени сочинения. Появилась пространственная музыка, появился инструментальный театр.
Инструментальный театр — это театр без литературы. В нем инструменталист или певец играют самих себя, а не перевоплощаются в неких внемузыкальных персонажей.
Роли исполнителей в инструментальном театре отталкиваются от того, на каких инструментах, как и что они играют. Ведь тесситура, тембр и штрих фатально семантичны. На секунду представьте себе хана Кончака, поющего фальцетом, — дело, возможное только в пародии. Бас в музыке,
Инструментальный театр не стоит путать с музыкальным хэппенингом, хотя он и вырос из последнего.
От хэппенинга были унаследованы внелитературность драматургии и широкая трактовка материала музыки, когда не только звук, но и шум
Привычку к равнопредъявленности культивированного звука, шума и сценического действия отработал еще хэппенинг. Надо было только освободиться от его иронической заданности. Надо было деструктурировать деструкцию: объединить звук традиционных инструментов, шумы и сценическое действие, в хэппенинге нарочито перечащие друг другу.
Как говорит Бакши, «шуметь можно на скрипке, а играть на ведре». И правда: для логической артикуляции определенной музыкальной мысли ведро может оказаться не менее, а то и более функциональным, чем скрипка. Ведь в конечном итоге функция в языке важнее субстанции.
Сценическое движение может и буквально быть движением звука — мелодией (мелодией не только во времени партитуры, но и в пространстве исполнения).
В пьесе Бакши «Зима в Москве. Гололед...» струнный ансамбль играет, передвигаясь по сцене и шаркая по ней подошвами. Это шарканье, имитирующее осторожное хождение по наледи, темброво задано первым аккордом подготовленного рояля, в котором явственно слышен некий
В
Интенции которого культурно «сбылись»?
Во всяком случае, думая о сегодняшнем авангарде цивилизации — постиндустриальных обществах, можно прибегнуть к описанию (перенос старых функций на новую субстанцию), подходящему к инструментальному театру. Ведь иерархизирующую функцию в постиндустриальной культуре выполняют знания, информация — имматериальные агенты, продолжающие, однако, делать то, что прежде делало материальное богатство (так же, как манипуляции с ведром в инструментальном театре продолжают игру на скрипке). Если же учесть, что знания (и всякая вообще идеальность) в системе традиционной иерархической логики выше, чем материальная собственность, а видимое, связанное с глазами, в европейской традиции выше, чем слышимое («Пришел, увидел, победил», «Хлеба и зрелищ», «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» и т. п.), то и вектор развития в музыкальном проекте и цивилизационном движении совпадает.
Правда, постиндустриальные страны могут и не выдержать усиливающегося напряжения контекста: отсталых и отстающих территорий мира. Вот ведь инструментальный театр может говорить сразу на нескольких языках как на одном — в единой логике взаимных интерпретаций, а где таковая в современном мире?
Библиография
Алпарова Н. Жанр — кусок жизни//Российская музыкальная газета. 1994. № 3–4.
Бакши А. Опыт внутреннего диалога о театре//Музыкальная академия. 1995. № 3.
Бакши А. Сумбур вместе с музыкой. «Настоящее искусство всегда сиюминутно»//Независимая газета. 1996. № 129.
Бакши Л. Сидур — мистерия (опыт рождения театра)//Музыкальная Академия. 1994. № 1.
Бакши Л. Хочу, чтобы звук выражал!..//Знамя. 1998. № 2.
Бакши Л. Музыка в отсутствие литературы//Знамя. 1999. № 4.
Бакши Л. Домашний театр или Полифония мира//Октябрь.2001. № 3.
Бакши Л. Вижу одно, слышу другое//Театр. 2002. № 2.
Казьмина Н. Полифония как она есть//Театральная жизнь. 2001. № 6.
Сидур Ю. Пастораль на грязной воде. Повесть. Посвящается Александру и Людмиле Бакши//Октябрь.1996. № 4.
Чередниченко Т. Музыкальный запас. Александр Бакши//Неприкосновенный запас. 2001. № 16.
Чередниченко Т. Музыкальный
Freedman J. Harmony is Dead: Long Live the New Age of the Polyphony//Moscow Times. 2001. May 24.
Freedman J. Cooperation Not Сompetition: Moscow’s Theater Olympics//The New York Times. 2001. June 10.
Freedman J. Аlexander Bakshi and His Mythological Theatre of Sound. A Dialog between Alexander Bakshi and Lydmila Bakshi//Theatre Forum. Summer/Fall 2001. Issue Number 19.
Тема № 213
Эфир 11.02.2003
Хронометраж 50:30