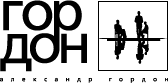| |
Как можно определить церковный раскол (схизму) и как связаны понятия «раскол» и «ересь»? Может ли церковь жить без расколов — это аномалия или закономерность? Что лежит в основе разделения западной и восточной церквей? Какое значение имел раскол старообрядчества для русской культуры? Можно ли считать экуменизм преодолением церковных расколов? О том, возможно ли сохранить в церкви единство многообразий, в том числе и многообразие мнений, — историки Елена Белякова и Алексей Юдин.
Участники:
Белякова Елена Владимировна — кандидат исторических наук
Юдин Алексей Викторович — историк современной церкви
Материалы к программе:
Из статьи А. Юдина «Тридцать лет спустя, или легко ли жить без анафем?»:
1054 год — символическая дата «Великого раскола» между Римом и Константинополем, она не была точной датой начала или окончательного завершения раскола. В генетическом плане его корни уходят далеко за хронологические рамки этого года, в политическом и этно-культурном аспекте они берут свое начало в классическом мире, перенеся на христианскую почву зародившиеся в нем противоречия между Восточной и Западной частями империи, между эллинским и романским началами. Проблематика «Великого церковного раскола» действительно очень сложна и многостороння, ее кропотливому историческому анализу были посвящены усилия крупнейших церковных историков прошлого и современности. Пытаясь изложить ее в ограниченном объеме этой статьи, мы рискуем не только справедливо заслужить нарекания в легковесности и односторонности анализа, но и войти в противоречие со смыслом того шага, который предприняли в 1965 года папа Павел VI и патриарх Афинагор — «изъять из памяти и из лона Церкви» отлучения 1054 года. Эти опасения оправданы еще и потому, что даже в современной (прежде всего восточной, но также и западной) экклезиологии не достаточно ясно сформулировано содержание схизмы и ее состояние в современном христианском мире. Поэтому «изымая из памяти и лона Церкви» взаимные отлучения 1054 года, Рим и Константинополь снимали символическую преграду для совместного изучения и преодоления не только их трагических последствий, но и в первую очередь причин разделения, тех исторических окаменелостей, которые мешают Востоку и Западу начать взаимное движение навстречу друг другу. «Символической» эту преграду можно назвать потому, что эти анафемы касались не Церквей Рима и Константинополя, а лишь конкретных их представителей — патриарха Михаила Керуллария и кардинала Гумберта. По логике и нормам церковного права эти отлучения должны были утратить свою силу после смерти их адресатов, тем более они не могли служить законным обоснованием церковного раскола.
Отношения Римских пап с императорской и патриаршей властью Константинополя стали особенно напряженными со второй половины IX века. Но и в предшествующую эпоху папы вели себя достаточно независимо от византийских императоров, и порой не только не подчинялись, подобно восточным патриархам, императорским эдиктам в делах веры и Церкви, но и открыто протестовали против тех из них, которые посягали на устои веры и Церкви. Римские епископы осознавали, что государственно-церковная модель взаимоотношений императорской и патриаршей власти в Константинополе, выражавшаяся в прямом вмешательстве «внешнего епископа» в собственно церковные дела и порой несущая прямую угрозу чистоте веры, все менее оправдывала их подчинение Византийским василевсам. Столетие иконоборческих смут не только политически отдалило римских епископов от Константинополя, но и способствовало дальнейшему расхождению их взглядов на собственно церковные проблемы (что, например, проявилось в неадекватности восприятия на Востоке и на Западе самой проблемы иконопочитания и вызвавшей ее контроверсии). К тому же политическая слабость Константинопольских императоров и их неспособность защитить Рим от нашествия варваров, заставляла пап обратить свои взоры и искать помощи у германских королей на Западе.
На Рождество 800-го года Папа Лев III коронует главу франкской династии Карла Великого в качестве Римского императора, то есть передает ему священные инсигнии Римских кесарей. Это был прямой политический разрыв с имперским Константинополем. Этот вынужденный шаг со стороны пап, стал причиной временного раскола между Церквами Рима и Константинополя, после того, как император Никифор (802–811) запретил Византийской Церкви всякие сношения с Церковью Рима. «Вы (римляне) сами отделились от Церкви», — пишет в послании к папе Константинопольский патриарх Никифор (806–815). Константинопольские императоры восприняли коронацию Карла Великого как смертельную обиду и злостное посягательство на их права единственных правомочных наследников Римских кесарей и, исходя из категорий византийской «симфонии» светской и церковной власти, подвигли к расколу Церковь.
Дальнейшие взаимоотношения между Церквами Рима и Константинополя все более приобретают характер полемического противостояния. Скрытой пружиной этой полемики было желание Константинопольских патриархов освободиться от канонического авторитета пап на Востоке, который не только признавался большинством соборных постановлений, но и временами расширялся до догматического примата. Папы призывались соборами для решения острых вопросов в делах веры, непосредственно или через своих легатов утверждали деяния соборов, направляли соборным отцам свои догматические послания. Как отмечает православный историк М. Э. Поснов: «Канонический авторитет папы над Востоком стоял твердо и вполне оправдывался им». На политической компрометации папства, как союзника германских императоров, и была во многом построена программа дальнейшего возвышения Константинопольской кафедры, возвышения, которое опиралось более не на значимость и древность ее апостольского преемства (которое в то время для многих было не бесспорно), но на статус столичного города.
Как известно, первое серьезное столкновение между Церквами Рима и Константинополя произошло в 860-х годах, и его главными действующими лицами были патриарх Фотий и папа Николай I. Сам конфликт был более сосредоточен на личностях папы и патриарха, а обострившийся в то время «болгарский вопрос» (т. е. по сути чисто политическая инициатива царя Бориса перейти под церковно-административное ведение Рима), стал удачным предлогом для Фотия возбудить дальнейшее недоверия к латинянам. Противостояние личных амбиций заставило патриарха Фотия сформулировать перечень основных «отступлений» Римской Церкви. Львиную долю этого списка составляют претензии обрядового характера к деятельности латинских миссионеров в Болгарии: пост в субботу, вкушение молока и сыра в первую седмицу Четыредесятницы, пренебрежение, которое выказывали латиняне к восточному женатому духовенству, вторичное помазание уже миропомазанных пресвитерами верующих, стрижение бороды и т. д. Но вместе с тем Фотий определяет и первое серьезное расхождение догматического свойства: латиняне дерзнули исказить извращением смысла и привнесением новых слов святой Символ веры, то есть они утверждали, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Контрагументация, данная Фотием на западное положение о «Filioque», становится с этого момента исходной точкой всякой православной антилатинской полемики.
Созванный патриархом Фотием собор 867-го года предал анафеме папу Николая. Римская сторона обвинила этот собор в сплошных подлогах, экземпляр соборных актов, посланный в Рим, был сожжен в 869 года уже после восстановления на константинопольском патриаршем престоле Игнатия, соперника Фотия, решения «болгарского вопроса» совместно с папскими легатами и осуждения фотиан как еретиков наравне с иконоборцами. Патриарх Игнатий умирает в 877 году и Фотий начинает новое восхождение к высотам церковной власти. Прибыв на собор 879–880 годов, папские легаты обнаруживают Фотия вновь на патриаршем троне. Не имея от папы Иоанна VIII инструкций и полномочий на ведение переговоров с Фотием, они запрашивают Рим. В дело вмешиваются Константинопольский император и сам Фотий, совместными усилиями им удается убедить папу признать Фотия патриархом и дать полномочия своим легатам присутствовать на соборе. Этот собор стал настоящим «апофеозом» патриарха Фотия, величаемого уже открыто «Вселенским патриархом». (Впервые титулом «вселенский» был поименован Константинопольский патриарх Иоанн II в конце VI века, что уже тогда привело к напряженности в отношениях с Римом и в пику «папистским» претензиям Константинополя украсило официальный титул Римских епископов смиренным «servus servorum Dei» — «слуга слуг Божиих».) Из-за незнания греческого языка легаты были не в состоянии обнаружить настойчиво проводимого Фотием извращения реального положения вещей и развития теории о исключительной высоте власти Константинопольского патриарха. Таким образом, растворившись в Фотиевом апофеозе, они не смогли осуществить данные папой инструкции и полномочия. В этот момент казалось, что между Папой Иоанном и Фотием заключен мир: Константинопольский патриарх всячески превозносил в своих речах Ветхий Рим и его православных предстоятелей. Однако, когда папа разобрался в содержании греческих текстов соборных деяний, он осудил своих легатов и предал Фотия анафеме.
Эти драматические события в дальнейшем получили в западной историографии название «Фотиевой схизмы», а само имя властолюбивого патриарха стала на долгое время нарицательным на Западе в отношении Восточных Православных Церквей. «Фотиевские Церкви» в терминах позднейшей католической полемики означали некий конгломерат клонящихся к своему упадку раскольничьих Восточных Церквей («оледенелый труп», как говорил граф Жозеф де Местр). Но, если Фотий как бы сформулировал своим перечнем основных «отступлений» латинян от правой веры теоретическую программу будущего раскола, то папа Николай I ввел в экклезологический обиход для обоснования своей позиции такие сочинения как «лже-Исидоровы декреталии» и Donatio Constantini, служащие якобы историческими свидетельствами легитимности канонического примата Рима на Востоке и даже расширяющими его юридические полномочия. Во время Реформации была доказана подложность этих сочинений, однако их появление в середине IX века показывает, что под влиянием полемического противостояния амбициям Константинополя, Рим начинает форсировать обоснование собственной экклезиологической модели, более жестко трактующей формальные определения прав Римской Церкви, основанных на преемстве Петра. Однако острие греческой полемики того времени вовсе не было направлено против особого авторитета Рима в церковных делах и даже никак не задевало вопроса о примате и преемстве Петра. Тогдашнее византийское богословие не знало искусственно-полемического противопоставления между Петром и его исповеданием, ставшего краеугольным камнем позднейшей антилатинской православной полемики. «Господь вручил Петру ключи Царства в награду за правое исповедание, — пишет тот же Фотий, — и на его исповедании Он поставил основание Церкви». Деяния Собора 879–880 содержат явную формулировку примата Петра: «Господь поставил его главою всех Церквей, говоря: паси овцы моя». «Для Фотия, как и для всех отцов Церкви, западных и восточных, — отмечает И. Мейендорф, — не составляет существенной разницы сказать: «Церковь основана на Петре», или сказать: «она основана на исповедании Петра. Церковь существует в истории, потому что человек имеет веру в Христа, как Сына Божия: без этой веры не может быть Церкви». В то же время Мейендорф формулирует определенное различие в развивавшихся в то время на Востоке и на Западе экклезиологических моделях: «Инстинктивно, Восточные ощущали церковное единство, как единство веры — отсюда значение Никейского символа и латинской прибавки (т. е. Filioque — А.Ю.), — а не как единство церковной организации, на которой, в первую очередь, настаивали Западные... Греки долго не могли понять, что примат Рима есть такой же предмет религиозной веры, как и „Filioque“, веры в Церковь, как единый земной организм. Экклезиологический вопрос, поставленный церковному сознанию развитием папства, долго казался нереальным Востоку». При всей справедливости этой оценки, стоит уточнить, что этот «экклезиологический вопрос» был поставлен Западом в иное время и в совершенно ином качестве, а именно после разграбления и осквернения святынь Константинополя крестоносцами в 1204 году и назначения латинских епископов на исторические восточные кафедры, включая Константинопольскую. Во времена Фотия, еще не искаженное человеческой враждой и чудовищным насилием, церковное сознание Востока говорило о Петре и его преемниках в древних новозаветных и святоотеческих выражениях.
Полемика Фотия и Николая I обнаружила наличие не только мелочных обрядовых претензий, но и сформулировала «теоретическую» и отчасти догматическую программу будущего раскола, программу инспирированную властолюбивыми и честолюбивыми помыслами. Так в церковную почву были вложены те ядовитые семена, которые дали всходы в 1054 году и вызвали последующее многовековое противостояние Восточной и Западной Церкви.
1054 год. Что же все таки произошло в 1054 году между кардиналом Гумбертом и патриархом Михаилом Керулларием? На первый взгляд, рядовая распря, вызванная опять же таки столкновением амбиций и честолюбий двух князей Церкви. Профессор М. Э. Поснов отмечает, что «событие столкновения кардинала Гумберта с Константинопольским патриархом Михаилом Керулларием получило неподобающее ему историческое значение». Тем не менее, именно это прискорбное событие стало символом и главной вехой окончательного разделения Церквей.
Останавливаясь непосредственно на событиях 1054 года, можно сказать, что те обстоятельства, которые вызвали у Михаила Керуллария конфликт с Римом остаются весьма неясными и сложными. После 9 лет спокойного и не отмеченного никакими полемическими выпадами против Рима пребывания на Константинопольской кафедре, в 1053 году Михаил Керулларий выступает с распоряжением о закрытии в Константинополе латинских церквей и монастырей. Это было сделано в отместку за распространение папой Львом IX латинского обряда среди греков в южной Италии, области недавно присоединенной к Константинополю. Интенсивное проникновение латинских традиций в эту преимущественно греческую область Италии стало отголоском тех мощных реформ, которые в то время Лев IX осуществлял в Римской Церкви, и их экстенсивным развитием по всей Италии. Одновременно, патриарх и архиепископ Лев Охридский начинают антилатинскую полемику, которая особенно порицала западные обычаи опресноков (бесквасного хлеба) и субботнего поста. Антилатинское послание, составленное Львом Охридским, ставило своей целью сохранить зону греческого влияния и оградить ее от римских нововведений. В свою очередь, папа Лев IX направляет послание Михаилу Керулларию и Льву Охридскому, в котором пытается восстановить мир и порядок в Церкви. Однако речь в этой переписке шла не только о церковном мире, но и возможности установления военного союза Константинополя и Рима (читай Германского императора) против норманнов, занявших в то время Сицилию и угрожавших Византийской империи. До определенного момента, пока норманны не посягали на его вотчины, папа предпочитает поддерживать с ними нейтралитет. Но внезапно они переходят в наступление на папские владения и берут в плен самого Льва IX. Центральную роль в политических перипетиях антинорманского союза Константинополя и Рима играл византийский наместник Италии Аргирос, ловко манипулировавший интересами всех сторон. Ломбардец родом, он действовал вначале в союзе с норманнами, но вскоре поменял покровителей и перешел на службу к грекам, от которых и получил полномочия дуки (наместника) в Италии. Но будучи по вероисповеданию приверженцем латинской догмы, он с легкостью находит контакт с Римом и во многом делает ставку на его союз с Германским императором. В атмосфере этой церковной и политической нестабильности завязывается переписка между Львом IX и Михаилом Керулларием. Без мелочных оправданий, основываясь на исторических доводах, папа излагает аргументы в пользу приоритета Римской кафедры и незыблемости авторитета Петра. Одновременно он говорит о тщете попыток тех, кто восстает против этих общих церковных твердынь, и приводит многочисленные примеры злочестия и еретичества, нашедшие себе прибежище на самой Константинопольской кафедре или в ее сени. Главная мысль папы проступает достаточно отчетливо, Рим — мать всех Церквей, поэтому Восточные Церкви и, прежде всего, Константинопольская не могут подвергать ее нападкам, а только выказывать ей свое сыновнее почтение. Папа также упрекает предстоятеля Константинопольской кафедры за присвоение титула «Вселенского патриарха», говоря, что он может быть приличен лишь Римскому епископу, названному так еще на IV Вселенском Соборе. В какой-то момент начинает казаться, что патриарх готов на примирение с папой и даже готов поступиться своими «опресночьми принципами». Скорее всего это миролюбивое настроение было продиктовано двумя соображениями: чисто политическими причинами — необходимостью достижения антинорманского союза и идеологическими — нежеланием продолжать полемику, наносящую удар честолюбию церковного Константинополя. Однако цель намерений Михаила Керуллария остается прежней: продолжить дело Фотия и заполучить от Рима независимость Константинопольской кафедры любой ценой, быть может даже и церковного разрыва.
Понимая свою несостоятельность как полемиста, Константинопольский патриарх поручает монаху Студийского монастыря Никите Стифату (Пекторату) составить детальное обличение латинян. Стифат был учеником Симеона Нового Богослова, но во многом защищая свободу в Духе Святом и личный авторитет наставников, он доводил суждения своего учителя до крайностей. В своих беспощадных обличениях, Никита Стифат третирует латинян уже как откровенных еретиков. Им вменяются в вину на первый взгляд совершенно безобидные вещи: пост по субботам, возглашение аллилуи Великим постом, бритые безбрачные священники и епископы с перстнями, употребление для евхаристии пресного, а не квасного хлеба. Прежде всего на Западное христианство воздвигается обвинение в ереси опресничников (азимитов). Аргументация в пользу квасного хлеба несет на себе все отпечатки средневекового сознания, где частности не отделяются от сущности, всякий символ имеет действенный смысл, а «привходящая подробность обряда принимается за существенное условие таинства»: квасной хлеб есть хлеб живой и одушевленный, поскольку соль и закваска сообщают ему дыхание и жизнь, в то время, как латинские опресноки есть хлеб мертвый, бездушный и даже не достоин называть хлебом, будучи «как бы куском грязи». Не без ядовитой иронии В. С. Соловьев так отзывается о сущности этих споров: «Можно только пожалеть, что преимущества жизненности и соли остались в квасном хлебе, а не сделались отличительными свойствами византийского ума». Но в то время мало кто мог бы разделить неудобоваримую правоту соловьевского сарказма, кроме, пожалуй, Антиохийского патриарха Петра, сказавшего в письме к Керулларию: «Оставим бороды брадобреям!» Но о нем еще зайдет речь впереди.
Несколько столетий политического, культурного и вероисповедного отчуждения между востоком и западом Византийской империи вырыли огромный ров недоверия, озлобленности и прямой ненависти греков к римлянам, доведя до абсурда этнический конфликт, уходящий своими корнями в мир языческий. Утонченные, лукавые, всеведущие греки, то сказочно богатые, то практически нищие, но уверенные, что только на их Востоке в чистоте сохраняется предание веры, и напористые, неотесанные римляне и германцы, созидающие свой новый мир на Западе и свято верящие в незыблемость авторитета Римской кафедры, — такими они становятся в глазах друг друга. Поэтому мелочные обвинения, перечисленные Никитой Стифатом, на самом деле не столь уж и безобидны для греческой ментальности, и вскоре этих тлеющих углей станет вполне достаточно, чтобы раздуть пожар взаимной ненависти и окончательно утвердить раскол. Вселенское предание Церкви все более и более вытесняется в византийских умах преданием частным, партикулярным, а идеологическая машинерия, стремящаяся вопреки тому же преданию уровнять Константинопольскую кафедру в правах с Римом и добиться от него своей независимости, неотвратимо работает на будущий раскол. В своих устремлениях греческая Церковь становиться все более узко-национальной, идея вселенской Церкви все теснее отождествляется в ее самосознании с судьбой ромейской византийской нации, в то время как все «не-ромейское» становилось для греков чуждым и явно еретическим. Нет смысла обвинять исключительно ту или иную сторону в великом разделении Церквей, дальнейшие события, и, прежде всего, разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 году, на многие века ввергло христианский мир в хаос кровопролитной вражды и ненависти, коренящихся на вопиющих по своей сути бесконечных взаимных обвинениях. Но справедливости ради, необходимо признать, что инициатива в драматических событиях 1054 года и в их ближайших последствиях была делом непомерного честолюбия Константинопольских патриархов и забвения ими предания неразделенной Церкви. Рим, при всей своей наступательной заносчивости, все же действовал в согласии с церковным преданием, которое тогда еще адекватно воспринималось на Западе и на Востоке. (В позднейшей полемике, как, например, в славянофильском обличении «западных» исповеданий был сформулирован термин «романизм» как идеологический принцип «папских притязаний» на мировое церковное господство, которое вызвало и усугубило раскол. В противовес ему, а может быть и независимо от этого, было выдвинуто понятие «византийства» или «византинизма», обозначавшее не сам раскол, а ту совокупность причин, которые привели Константинопольскую Церковь к расколу (И. С. Гагарин, В. С. Соловьев).)
В начале 1054 года в Константинополь были отправлены папские легаты, официально имевшие полномочия для переговоров с императором, но также и проинструктированные папой относительно Константинопольской Церкви. По предварительной договоренности с Аргиросом, римская делегация делала ставку в политических и церковных переговорах именно на императора. Легатов было трое: кардинал Гумберт, канцлер Римской Церкви Фридрих и архиепископ Петр Амальфийский. Уже первые шаги, предпринятые ими в Константинополе, показали их высокомерие к патриарху и свидетельствовали о том, что в церковных делах они прибыли сюда только «для суда и решения». Это, соответственно, не могло не растравить окончательным образом уже и так глубоко задетое честолюбие Константинопольского патриарха. Дальнейшие события, казалось, совершенно срывают планы Михаила Керуллария и его сторонников. Папские послы вместе с императором посещают Студийский монастырь и встречаются с Никитой Стифатом, трактат которого стал известен Гумберту еще до приезда в Константинополь. Знавший греческий язык и имевший блестящее богословское образование, латинский кардинал без труда разбивает доводы византийского полемиста. Стифат признает себя побежденным, а его трактат торжественно предается огню на монастырском дворе. Однако все это отнюдь не свидетельствовало о примирении: тон Гумберта остается по-прежнему высокомерным, Михаил Керулларий, со своей стороны, делает все возможное, чтобы унизить достоинство папских легатов: призвав их на собор, он указал папским посланцам место позади греческих архиереев. Это стало последней каплей в борьбе честолюбий, и после отказа Гумберта подвергнуться такому унижению на соборе, его отношения с Константинопольским патриархом окончательно прерываются. Тогда римская сторона решает нанести ответный удар: 15 июля 1054 года во время торжественного богослужения в великом храме Святой Софии кардинал Гумберт кладет на престол буллу от отлучении Михаила Керуллария, Льва Охридского и его канцлера Никифора и их сторонников, воскликнув по-библейски: «Видит Бог и судит». Этой буллой патриарх и его приверженцы обвинялись в 10 ересях, ставших отражением все той же мелочной обрядовой полемики, однако им также вменялось в ересь опущение Filioque в Символе веры. Однако этот акт экскоммуникации вовсе не посягал ни на императора, ни на византийской духовенство в целом, ни на устои веры Константинополя: «Город христианский и православный, — начиналась отлучительная грамота, — Михаил же Керулларий, которого неправильно называют патриархом, напротив того...» Уверенность в своей власти папских легатов была такова, что этим действием они рассчитывали пробудить волнения в народе против патриарха, а затем низложить этого виновника разделения с Римом. Однако к тому времени папы Льва IX уже не было в живых, а в Константинополе об этом знали еще за три месяца до описываемых событий, поэтому в том, что касалось столь важного шага, действия легатов были формально не безупречны. Против них в городе поднимается мятеж и легаты вынуждены спасаться бегством. Попытка императора вмешать и примирить враждующих князей Церкви, не только не увенчалась успехом, но чуть было не стоила Константину IX жизни и короны. Мятеж разгорается, его жертвой становится Агрирос. Наконец собор, созванный Михаилом Керулларием, в составе 12 митрополитов и 2 архиепископов обнародует постановление, которое в основных положениях воспроизводит энциклику Фотия к восточным патриархам.
20-го июля решением Константинопольского Синода в присутствии представителей императора патриарх произносит приговор не только «против нечестивой хартии (т. е. отлучительной грамоты папских легатов), но и против тех, кто трудился над ее изготовлением — советом, или даже голосом». Патриаршая анафема на затрагивала Римской кафедры, в то время вакантной, однако ее тон свидетельствовал о высокомерном презрении к «римским чужакам»: «Некоторые нечестивые люди пришли из тьмы Запада в царство благочестия, и в сей Богом хранимый град, из коего как из источника истекают воды чистого учения до концов земли». Есть основания полагать, что этим актом Михаил Керулларий действительно считал разделение Церквей свершившимся фактом.
Дальнейшие попытки германских императоров и пап (как, например, императора Генриха III и папы Стефана IX) добиться политического альянса с Константинополем против норманнов, приглашая Византию и к церковному воссоединению не увенчались успехом. Константинопольскому собору 20 июля 1054 года на Востоке был придан статус общего осуждения латинян, а в XIII-XIV веках в пылу антилатинской полемики он даже стал почитался некоторыми как Вселенский (по аналогии с III Вселенским собором), хотя на нем не было не только представителей Римского папы, но и не присутствовали патриархи Антиохийский, Александрийский и Иерусалимский. Однако, раскол 1054 года не мог поставить «железный занавес» между Церквами Запада и Востока, и вплоть до конца первой половины XVII века, церковное пространство Востока было достаточно проницаемо для межконфессиональных контактов и влияний.
Из книги о. А. Шмемана «Исторический путь православия»:
В истории русского Православия — московский период знаменует не «органическую» эпоху, а глубокий перелом, кризис и разделение. В свете этого кризиса нужно толковать и семнадцатый век, последний век допетровской Руси. Он начинается со Смуты, кончается Петром. Его часто противополагали следующей эпохе, как «темный фон великих преобразований, столетие стоячее и застойное». В такой характеристике правды очень немного. Да, еще многие живут в это время по старине и обычаю. У многих даже чувствуется обостренная потребность всю жизнь заковать в некий торжественный обряд, освященный, если и не священный. Но о нерушимости отеческих устоев и преданий резонировать и беспокоиться начинают обычно именно тогда, когда быт рушится. И вот, в бытовом пафосе 17-го века, чувствуется скорее эта запоздалая самозащита против начавшегося бытового распада, упадочное «бегство в обряд, нежели непосредственная целость и крепость быта» (Флоровский). В семнадцатом веке вскрывается и обнажается кризис Московского Православия, путь Москвы оказывается тупиком. Тупик же делает неизбежной Петровскую ломку.
Две главные темы определяют собой жизнь русской Церкви в семнадцатом веке. Это — встреча с Западом через «Киевское» православие с одной стороны, раскол старообрядцев — с другой. Обе имеют огромное историческое значение.
Первая возвращает нас к той Киевской Митрополии, которая осталась, как мы видели, за чертой Московского Православия в 14-ом веке, в момент начинавшегося собирания земли русской вокруг Москвы. Это разделение Русской Церкви на две митрополии объясняется в первую очередь политической причиной: соперничеством между Москвой и Литвой за центральное место в государственном «собирании». В 14-ом веке Литва была фактически русской землей и могла претендовать не хуже Москвы на собирание уделов. Отсюда стремление Литовских князей завести своего, независимого от Москвы, митрополита, которое и увенчивается в конце 15-го века успехом. Но — еще раньше, благодаря браку Ягелло с Ядвигой Польской (1386), Литовское Княжество оказывается сначала в «личной унии» с Польшей, а затем — после последнего взлета литовской независимости при Витовте (1398 г.) — уже и в окончательном государственном с ней единстве. А это означает, что с середины 15-го века юго-западная Митрополия оказывается под властью римско-католических королей, в непосредственном контакте сначала с католицизмом, позднее — с протестантизмом, под непрестанным и очень сильным натиском инославия. Историю этой трагической борьбы описывать здесь невозможно: трудно себе представить что-нибудь более отдаленное от подлинного единства Церкви, чем то, что тогда проводилось «огнем и мечом», осуществлялось в лжи и насилии, на века надламывало народную душу, отравляло христианство стихийной ненавистью и называлось «унией» — то есть соединением! Брест-Литовская уния 1596 года, после которой начинается период кровавого гонения на Православие в Галиции, в Литве, и на Волыни (зловещий образ Иосафата Концевича!) — есть достойное завершение византийских «уний», с тою только разницей, что эти последние, «благодаря» турецкому игу, оказались эфемерными, а Брест-Литовская — на много веков вперед отравила ненавистью, разделениями, раздорами юго-западное славянство: настоящие гонения на Православие вспыхивали здесь еще в 20-ом веке! Но эта история отмечена и другим: когда к концу 16-го века почти вся православная иерархия оказалась соблазненной унией (вернее же правами католических польских епископов и имениями) защиту Православия взяла на себя, с одной стороны, православная «интеллигенция», с другой же — сам церковный народ. В окружении влиятельного князя Острожского создался первый культурный центр, была основала высшая школа, православие защищалось пером и книгой. Сюда бежали из Москвы кн. Курбский и русский первопечатник Иван Федоров, здесь была напечатана знаменитая Острожская Библия (1580–1581). Правда здесь спорили больше с усилившимся в то время в Польше и Литве протестантизмом, но важен уж сам этот замысел культурного делания в Православии, этот первый очаг «славяно-греческой» традиции. И все же перед лицом страшного натиска иезуитов, начинающегося с восьмидесятых годов 16-го века, (они были посланы в Польшу для борьбы с протестантами) решающим оказалось сопротивление народа, нашедшее свое выражение в братствах. Патриарх Иоаким Антиохийский, во время своего проезда через Россию в 1586 г., дал грамоту древнейшему львовскому братству: оно могло обличать противных закону Христову, даже отлучать от Церкви, обличать самих епископов. За Львовом возникли братства в Вильне, в Могилеве, в Полоцке и других городах. «После Брестского собора именно братства становятся опорными точками литературной полемики и богословской работы. Братства организуют школы, открывают типографии, издают книги»... В 1615 году возникает знаменитое Киевское Братство и, при содействии казаков, открывается Братская школа: тут и создается главный центр юго-западного Православия.
Но если первыми влияниями здесь были влияния византийской традиции, очень скоро она стала все сильнее смешиваться с влияниями западными. Борясь с латинством, «по необходимости обращались к западным книгам. Новое поколение проходило уже вполне западную школу. Привлекал и западный, латинский пример» (Флоровский). И весь смысл, всё значение этой Киевской главы в истории Православия в том, что именно тогда православное богословие во имя защиты Православия от агрессивной Унии само постепенно вооружилось западным оружием, постепенно православную традицию «переложило» в латинские, схоластические категории. Решающим оказалось влияние знаменитого Киевского митрополита Петра Могилы (1633–1647) «Это был убежденный западник, западник, по вкусам и привычкам». И в Киеве, в противовес Братской — славяно-греческой школе, он основал уже вполне латино-польское училище, вскоре поглотившее братское. «Программа этой школы была взята из иезуитских школ», и преподавали в ней учители, прошедшие польские иезуитские коллегии. Здесь вопрос о Православии и Католичестве превратился в вопрос всего лишь о «юрисдикции»: разности в вере эти западники уже не чувствовали, вернее весь склад их собственного ума был уже всецело латинский. И главный богословский памятник этого движения «Православное Исповедание» (надписываемое обычно именем Могилы) было исповеданием в сущности латинским, по латыни оно было и написано. Оно отвергало, правда, папский примат, но весь дух его был католическим. С Могилой же начинается проникновение латинских формул и теорий и в православное богослужение.
И вот в истории Русского православия необычайно важной оказалась прививка ему этого «украинского барокко», — еще до Петра Великого и его «окна в Европу» поставившая всё русское богословие, всю русскую духовную школу в зависимость от Запада. «Западно-русский монах, выученный в школе латинской или в русской, устроенной по ее образцу, и был первым проводником западной науки, призванным в Москву» (Ключевский). Отцами нового русского школьного богословия были два очевидных «латинника» — Симеон Полоцкий и Паисий Лигарид. В самой Москве появляются иезуиты, и спор «о времени преложения Св. Даров», возникающий в семидесятые годы в Москве, по самой своей теме есть типично западный спор. Первые школы открываются в Москве по образцу Киевских — и, когда наступит Петровская реформа, русская богословская наука будет уже «западнической»! Церковь не смогла ничего противопоставить этим влияниям. Еще раз — это была не свободная встреча православной традиции с Западом, это было завоевание «латинизмом» невооруженного Православия.
Об этом же кризисе Предания свидетельствует трагическая история Раскола. Главной причиной его был вопрос об исправлении церковных книг, но за этим вопросом в церковном сознании стояли более глубокие вопросы и сомнения. Со Смутным временем кончилась «изоляция» Московского Царства, оно оказалось на перепутье или даже на распутье. Встречи с иностранцами, участившиеся и укрепившиеся связи с Киевом, с Востоком, а также с Западом, непосредственно, настоятельно требовали «приведения в порядок» собственного церковного хозяйства, будили мысль, вскрывали односторонность, недостаточность, незащищенность московских преданий. Особенно остро, в связи с книгопечатанием, стоял вопрос о богослужебных книгах. В рукописях было слишком много разночтений. По каким спискам печатать? Книги «литовской печати» вызывали сомнения в православии, русские оказывались испорченными и противоречивыми. При Михаиле Феодоровиче несколько раз споры дошли до острых разрывов и осуждений: таково осуждение в 1618 году Троицкого архимандрита Дионисия, исправлявшего Требник. Уже в страстности этого процесса чувствуется неблагополучие, встревоженность церковного сознания. С воцарением Алексея Михайловича «реформаторские» настроения усиливаются при дворе. Это время усиления в Москве Киевского влияния, наплыва в Россию западных людей. Но особенно следует отметить восстановление тесных связей с Православным востоком: при Алексее Михайловиче мы несколько раз видим в Москве восточных Патриархов: они участвуют и в деле Никона и в осуждении «старой веры», с ними ведется деятельная переписка, русские люди посылаются сами на восток. И вот, как ни странно, именно эти новые связи с греками оказываются одним из источников раскол и смуты. В конце концов книги было решено исправить по греческим образцам. Этот «греческий» мотив исходит от Царя и близкого к нему кружка «ревнителей». Но в том-то и вся трагедия, что, принимая «греческое», в Москве уже не разбирались в качестве этого «греческого» — очень часто испорченного не менее русского, что вся «права» шла при полном отсутствии культурной и богословской перспективы. И слишком часто авторитетами оказывались подозрительные выходцы с востока, искавшие в Москве милостыни или наживы и случайно попадавшие в учителя. Исправление книг было вдохновлено не столько возвращением к «духу и истине» православного богопоклонения, сколько стремлением к единообразию, и часто легкомысленным грекофильством. Особенно роковой оказалась роль патриарха Никона. У него «была почти болезненная склонность все переделывать и перелагать по-гречески, как у Петра впоследствии страсть всех и всё переделывать по-немецки или по-голландски. Их роднит также эта странная легкость разрыва с прошлым, эта неожиданная безбытность, умышленность и надуманность в действии» (Флоровский). Слишком много было сразу же наложено проклятий и анафем, слишком всё проводилось приказом и указом... Но, что еще хуже — греческие книги, напечатанные в Венеции, оказывались часто подозрительными, «латиномудрствующими» — как и киевские издания Петра Могилы. Это не значит, что правы были ревнители «старой веры»: Аввакум и ему подобные; но их смущало это «огульное отрицание всего старорусского чина и обряда», это равнение по подозрительным киевлянам и не менее подозрительным грекам, многие из которых, действительно, учились в Риме и для этого на время принимали даже латинскую веру. Именно тут раскол приобретает всю свою трагическую глубину, как спор об истории, и особенно о смысле в ней русского Православия, о судьбах христианского Царства. В простой форме тревогу раскольников можно выразить так: если всё это священное и святое московское прошлое, если Третий Рим — последний оплот и надежда Православия, оказываются, как утверждают «новаторы», повинными в стольких ошибках и извращениях, почти в отпадении от истины (например, двуперстное перстосложение собор 1656 г. осудил как «несторианское»!), то не значит ли это, что истории приходит конец — и близ есть Антихрист. «Совсем не „обряд“, но „Антихрист“ есть тема и тайна русского Раскола <...> Весь смысл и весь пафос первого раскольничьего сопротивления не в „слепой“ привязанности к отдельным обрядовым или бытовым мелочам. Но именно в этой основной апокалиптической догадке» (Флоровский). Раскол есть не что иное, как расплата за Московскую мечту о священном быте, о совершенном воплощении в истории, на земле последнего Царства. И еще глубже — расплата за коренной антиисторизм византийской теократии, отвергшей христианство как путь и творчество, захотевшей остановить историю в «вечном повторении» одной всеобъемлющей мистерии. Здесь вскрылись и максимализм этой теории и ее ограниченность: ведь всё Православие измерялось по-внешнему, по ритуалу и словам, спор ни разу не вышел из этой удушающей обрядовой казуистики. В известном смысле раскол действительно оторвал от Церкви ее лучшие силы — те, для которых уклад и быт были не самодовлеющими ценностями, но проявлением внутреннего максимализма в понимании христианства и его применения в истории. Эти люди жили целостным замыслом о христианском мире: не их вина, что сам замысел этот и в поздней Византии и особенно в Москве оказался отрезанным от живых источников, от творческого вдохновения ранней Церкви, суженным до Типикона и Домостроя. Но и их противники не преданием и не истиной питали свою реформу: новые книги оказались лучше старых, исправнее, осмысленнее. Но иерархия так легко, без углубления в самые источники веры и учения Церкви, принявшая эту реформу, слишком легко примет и другие реформы: лишь бы они исходили от власти, были сделаны «по Высочайшему изволению»... Раскольники противились не столько Церкви, сколько Царству — но во имя той теории Царства, которая, как бы она ни мельчала и ни сужалась, видела, хотела видеть в нем Царство, служащее Христу. Их же противники уже почти не чувствовали эту надвигавшуюся метаморфозу христианской теократии в абсолютизм.
Таким образом вопрос о соотношении Церкви и Царства снова обостряется в семнадцатом веке. От патриотического служения патриарха Гермогена и Троице-Сергиевой Лавры в Смутное время, через своеобразный «папоцезаризм» патриарха Филарета — до Никона и Раскола. И всё сильнее чувствуется, что началось перерождение государства, что стало меняться его самосознание. Даже Тишайший царь Алексей Михайлович, приносящий от имени Царства покаяние перед мощами св. Филиппа, по существу, уже далек по своей психологии от византийского и древнерусского теократического самосознания. В Москву всё очевиднее проникает атмосфера западного абсолютизма. Разрыв Никона с Царем, в каком-то смысле, повторяет в России западный спор о соотношении Царства и Священства: это спор о «власти» прежде всего. Но, может быть, именно раскол делает неизбежным торжество абсолютизма при Петре Великом...
Документ:
СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ и КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ по СЛУЧАЮ СНЯТИЯ АНАФЕМ
1. Благодарные Богу за то, что по благости и милосердию Своему Он дал им встретиться на той священной земле, где смерть и Воскресение Господа Иисуса завершили тайну нашего спасения, и где излияние Духа Святого породило Церковь, папа Павел VI и патриарх Афинагор I, твердо решили не упускать ни одной возможности к проявлению жестов, вдохновленных любовью, которые могли бы содействовать развитию уже начавшихся братских отношений между Римско-Католической и Православной Церквами. Они убеждены, что отвечают таким образом на призыв благодати Божией, ведущей ныне как Церковь Римско-Католическую и Церковь Православную, так и всех христиан к преодолению разногласий, дабы они вновь стали «едиными», как просил о них Господь Иисус Своего Отца.
2. Среди препятствий, которые находятся на пути к братским отношениям доверия и уважения следует назвать прежде всего воспоминание о достойных сожаления решениях, поступках и инцидентах, приведших в 1054 году у отлучению патриарха Михаила Керуллария и двух других лиц легатами Римского Престола, возглавляемыми кардиналом Гумбертом, подвергшимися в свою очередь подобному отлучению со стороны Константинопольского патриарха и Синода.
3. В тот беспокойный период истории события эти не могли быть иными. Но сегодня, когда возможно о них вынести более здравое и уравновешенной суждение, необходимо признать, что чрезмерное значение, которое они приобрели позднее, было чревато последствиями, которые, насколько мы можем судить, далеко вышли за пределы намерений и предвидений зачинщиков, чьи запретные меры касались лишь определенных лиц, но не Церквей и не были направлены на прекращение церковного общения между кафедрами Римской и Константинопольской.
4. Вот почему папа Павел IV и патриарх Афинагор I со своим Синодом, убежденные в том, что выражают общее стремление к правде и единодушное чувство любви своих верующих, напоминают завет Господень: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что нибудь против тебя, — оставь там дар твой перед жертвенником и иди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5, 23–24) — и по обоюдному согласию заявляют: а) что они сожалеют об оскорбительных словах, о необоснованных упреках и осудительных жестах, которые как с одной, так и с другой стороны окрасили собою печальные события того времени или сопутствовали им; б) что они равным образом сожалеют и желают изъять из памяти и Среды церковной акты отлучения, которые затем последовали, и воспоминание о которых до наших дней служит препятствием к сближению в духе любви, и предать их забвению; в) что они скорбят о том, что дурные прецеденты и последующие события под влиянием различных факторов, прежде всего взаимного непонимания и недоверия, в конце концов привели к реальному разрыву церковного общения.
5. Папа Павел VI и патриарх Афинагор I со своим Синодом сознают, что этот жест справедливости и взаимного прощения недостаточен для того, чтобы положить конец разногласиям, как древним, так и недавним, все еще остающимся между Римско-Католической Церковью и Церковью Православной, и которые будут преодолены действием Святого Духа, благодаря очищению сердец наших, благодаря раскаянию в исторических ошибках и деятельной воле к достижению понимания и совместному выражению апостольской веры и ее требований. Совершая подобный жест, они уповают на то, что он будет угоден Богу, готовому прощать нас, когда и мы прощаем друг друга, и оценен всем христианским миром и в особенности всей Римско-Католической Церковью и Православной Церковью, как выражение искренней воли к примирению, как побуждение к продолжению в духе взаимного уважения, доверия и любви, диалога, который к великой пользе для душ приведет с помощью Божией к обоснованию жизни, наступлению Царства Божия в полном общении веры, в братском согласии и участию в таинствах, соединявших нас в течение первого тысячелетия жизни Церкви.
Павел VI, папа
Афинагор I, патриарх
А. В. Юдин:
Декларация о «изъятии из памяти и церковной среды» анафем 1054 года сняла хоть и символические, но очень болезненные преграды на пути «диалога любви». Но сквозь образовавшиеся просветы, вместе с пришедшей свободой на пути к сближению, хлынули и многочисленные проблемы, относящиеся как к аспектам православно-католического диалога, так и к вопросам единства непосредственно в Православном мире. Однако и в лоне Католической Церкви не все обстояло гладко: Восточные Католические Церкви имели свое особое мнение уже по некоторым положениям Совместной декларации, и это отразилось в определенных поправках к ее тексту, которые, впрочем, не изменили ее основного содержания. Настоящий обзор не ставит своей задачей серьезный анализ перспектив дальнейшего богословского диалога и рассмотрение возникших в его ходе трудностей. Мы надеемся, что в скором времени нам удастся опубликовать достаточно компетентные материалы, посвященные этой теме (хотя почин уже сделан с появлением в первом номере нашего журнала разъяснения Папского Совета по содействию христианскому единству по вопросу о Filioque — «Греческая и латинская традиции об исхождении Святого Духа», составленного по просьбе нынешнего Константинопольского патриарха Варфоломея I). Однако в конце этой статьи мы приведем иллюстрацию одной их таких проблем на, так сказать, «родном материале».
Сейчас же нам остается отметить, что для того, чтобы диалог между Церквами Востока и Запада не только вошел в свои права и развивался далее, но и хотя бы удержался на достигнутой высоте, потребовались новые дерзновенные усилия его инициаторов.
Библиография
Амвросий Погодин, архимандрит. Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. М., 1994
Белякова Е. В. Сборники церковных канонов на Руси//Страницы: Богословие, культура, образование. 1997. Т.2
Догматические послания иерархов XVII–XIX вв.: О православной вере. Свято-Троице-Сергиева лавра, 1993.
Евдокимов П. Православие/Пер. с фр. М., 2002
Иоанн Мейендорф, протоиерей. История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 2000
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви: Догматическое богословие. М., 1991
Мазуринская Кормчая. Памятник межславянских культурных связей XIV–XVI вв.: Исследование и тексты. М., 2002
Православие и католичество: от конфронтации к диалогу/Сост. А. М. Юдин. М., 2001
Православие и экуменизм: Документы и материалы 1902–1998. М., 1999
Православное богословие на пороге третьего тысячелетия. Москва 7–9 февраля 2000 г.: Материалы конференции. М., 2000
Русская Православная церковь и коммунистическое государство/Сост. О. Ю. Васильева. М., 1996
Шкаровский М. В. Иосифлянство: течение в Русской Православной церкви. СПб., 1999
Шкаровский М. В. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви XX века. СПб., 1999
Dvornik F. The Photian Schism. Cambridge, 1948
Gill J. The Council of Florence. Cambridge, 1959
Тема № 214
Эфир 12.02.2003
Хронометраж 50:02
|
 12.02.2003
12.02.2003  50:02
50:02