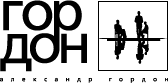| |
Свобода... Мы не свободны в рождении и замираем в неведении, думая о смерти. Если детерминированы изначально заданные координаты, то возможна ли свобода внутри них? Всегда ли мы выбираем то, что выбираем, или выбранное нами выбирает нас? О свободе выбора свободы, свободе-самоограничении, свободе-предопределенности и возможности ее избежать, — философ Рубен Апресян и филолог Давид Гзгзян.
Участники:
Рубен Грантович Апресян — доктор философских наук, профессор, заведующий сектором этики Института философии РАН
Давид Гзгзян — кандидат филологических наук, зав. кафедрой христианской этики и догматики Свято-Филаретовского института
Материалы к программе:
Из книги: Р. Г. Апресян, С. К. Гусейнов. Этика. М., 1998–2001.
Свобода и необходимость. В самом общем смысле свобода — это отсутствие давления или ограничения. Это значение слова отражено в словаре В. Даля: «свобода» — своя воля, простор, возможность действовать по-своему, отсутствие стеснения, неволи, рабства.
Отсутствие каких ограничений существенно для нее?
Вот, например, захотелось бы в полминуты дочитать эту книгу до конца. Способность скорочтения у иных людей бывает развита чрезвычайно, однако у нее есть пределы, большинство же людей читают с такой скоростью, что для прочтения этой книги требуется гораздо больше времени. Возможность левитации (т. е. свободного от силы притяжения перемещения в пространстве в несоизмеримые с расстоянием промежутки времени), по всей видимости, невероятна для обычных людей из-за известных законов физики. Это — природные ограничения, которые задают предел фантазии самым свободолюбивым натурам. Но для скорого чтения есть определенные приемы, и им можно научиться. И перемещение по воздуху, пусть и иного рода, некогда казавшееся принципиально невозможным, перестало быть фантазией с развитием аэронавтики, а именно, специальных технических средств для полетов. Человеческие действия ограниченны из-за отсутствия оснастки, средств. Это является фактом относительным. С развитием опыта, знаний и техники оснащенность человека необыкновенно увеличивается. Вот почему знание — сила. И одно из классических определений свободы, которое восходит к стоикам, утверждавшим, что свобода человека заключается в разумности, но известное благодаря Спинозе и Гегелю и воспринятое марксизмом, гласит: свобода есть познанная необходимость.
Не зависимые от человека ограничения могут быть в нем самом и заключаться не только в незнании и неумении, но и в страхах. Индивид может быть ограничен в выборе не из-за незнания каких-то возможностей, но из страха принятия их. Например, некто N, каждый раз добирается из Петербурга в Магадан поездом не потому, что хочет сэкономить на транспорте, пусть ценою недельных неудобств в поезде, но потому, что боится летать самолетами; N лишен возможности выбирать вид транспорта. Правда, освободиться от страха особенно трудно, когда это — страх свободы.
По-иному проблема свободы предстает в случае иных ограничений, также от человека не зависящих — идущих от власти. Давление, оказываемое на человека, прямо и косвенно, может иметь политический и правовой характер. Свобода даже как познанная необходимость оказывается резко ограниченной, если у человека нет доступа к информации (запрятанной, например, в «спецхран», для получения пропуска в который требуется еще специальный допуск).
Свобода человека выражается в свободе выбора. Но выбор реален при наличии альтернатив, также доступных познанию. Так, в тоталитарном обществе, получение информации и изучение альтернатив может быть невозможным в силу того, что в процессе многолетней «промывки мозгов», манипуляции сознанием, контроля за цуркулирующей информацией люди понятия не имеют об альтернативах и даже о слове «альтернатива»; они могут не знать о существовании «спецхрана», — и счастливо не чувствовать своей несвободы.
Так что свобода заключается не просто в отсутствии ограничений: строго говоря, в чистом виде такого состояния быть не может. Свобода — это характеристика действия, совершенного: (а) со знанием и учетом объективных ограничений, (б) по собственному произволению — не по принуждению и (в) в условиях выбора возможностей.
Произвольность действий представляет собой отдельную философско-этическую и психологическую проблему. Анализ произвольности и непроизвольности действий в связи с природой добродетели первым в истории мысли предпринял Аристотель. Непроизвольны действия, совершенные подневольно (под влиянием природной стихии или чьей-то власти) или по неведению (когда совершающий действие не может знать о всех возможных последствиях). Но и не всякие произвольные действия добровольны. N произвольно, но недобровольно ставит подпись под оговором, чтобы избежать пытки, которой угрожают его жене и детям. Аристотель называл такие действия смешанными: они произвольны, поскольку источник действия заключен в самом деятеле, но они непроизвольны, поскольку сам человек по своему желанию ничего подобного никогда не совершил бы. Далее, к непроизвольным поступкам, по Аристотелю, не следует относить такие, которые совершены по неведению того, в чем состоит польза; такие поступки отрицательно характеризуют деятеля или действие. К непроизвольным действиям не следует относить также такие, которые совершаются в ярости или по влечению.
Среди произвольных поступков Аристотель выделяет намеренные (или преднамеренные), которые совершаются сознательно, по выбору. Сознательное действие — не то, которое совершено только из желания: ведь людям свойственно желать и несбыточного. А выбор касается того, что зависит от человека, а именно, средств достижения цели и способов их употребления.
Следует отметить, что этические аспекты проблемы свободы раскрываются не в отношении свободы к необходимости. Нравственная свобода обнаруживается в том, как принимаются решения, какие решения принимаются и какие действия сообразно этим решениям совершаются. И Аристотель конкретизирует свое рассуждение, доводя его до проблемы добродетели. Сознательность — не единственная характеристика выбора. Выбор может быть правильным или неправильным, и если одобряют выбор, то за верность должному и за стремление к высшему благу. Добродетели, как и пороки, по Аристотелю, связаны с сознательным выбором и собственной волей. Человек ответствен за свой выбор, а также за то, какой характер у него сложился, что предопределяет такие, а не другие, его решения, за то, какие поступки он совершает, какие они влекут за собой последствия для других людей и для него самого.
Своеволие или автономия? Особое ощущение и понимание свободы как отсутствия давления выражается в русском слове, очень близком по смыслу слову «свобода» и нередко употребляемом синонимично ему. Это слово: «воля». «Воля» — это свобода от рабства, от крепостного состояния, это данный человеку простор в поступках, это — отсутствие неволи, насилования, принуждения; это — сила, и власть, и могущество; но это — и простор в желаниях и вожделениях; это — свое-волие, это про-извол. Но не в смысле аристотелевской произвольности как условия преднамеренности: произвол — это разнузданность в самостоятельном волении.
Социальный ученый и историк Г. П. Федотов (1886–1951) писал: «Свобода для москвитянина [в XVII в.] — понятие отрицательное: синоним распущенности, „наказанности“, безобразия <...> Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля — всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник — идеал московской воли, как Грозный — идеал царя. Так как воля, подобнo анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культуре п́устыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, — разбойничества, бунта, тирании».
Однако свобода, понимание и практикование которой ограниченно только представлением о личной независимости, самовольности, неподзаконности не может проявить себя иначе, как в равнодушии, непричастности или безответственности.
Об этом писал С. Л. Франк: «Свободен ли тот, кто без смысла и цели шатается из стороны в сторону, блуждая без пути, подгоняемый лишь вожделениями текущей минуты... Свободен ли тот, кто не знает, куда деваться от духовного безделья и духовной нищеты? Перед лицом таких «соблазнов» невольно с горечью вспоминается старая глупая, но символически многозначительная острота: «Извозчик, свободен?» — «Свободен». — «Ну, так кричи: да здравствует свобода!».
В неприкаянности свобода — бессердечна. Но одно дело, когда воля обнаруживает себя как само-волие, а другое — как свое-волие. В первом случае она удостоверяет себя как могущая быть неподотчетной волей, самостью, во втором — как не подчиняющаяся порядку, может быть из чистого духа противоречия. Это «свобода», порождающая эгоизм и разнузданность, ведущая к бунтарству — к отмене всякого закона, стоящего надо мной (это своеволие заявляет: «Делаю, что хочу!»); а затем и к тирании — самочинному возведению своей воли в ранг закона для других (это тирания приказывает: «Делать, что я хочу!»).
Независимость сама по себе представляет несомненную ценность, которая признавалась всегда в истории цивилизации. Одно из выражений лично-независимого характера находим в формуле «Хочу жить для себя, а не для другого». Эти слова древнегреческого поэта Пиндара менее всего выказывают его эгоизм. Так он ответил на лукавый вопрос о том, почему Симонид поехал в Сицилию к Тирану, а он не желает. Перед нами — самодостаточное, апеллирующее к самостоятельности и независимости сознание. В заявлении Пиндара заключено существенное: «Не хочу служить и быть зависимым, но хочу быть хозяином самому себе».
Независимость, которую проповедовал античный мудрец, конечно, своеобычна. Он обретал независимость, отказываясь от явных благ придворной жизни. Так же независим был эпикуреец, не боясь смерти и довольствуясь естественным и необходимым; а стоик — храня верность самому себе в противостоянии неблагоприятным обстоятельствам. Так позже был независим христианский отшельник — благодаря отрешению от бренного мира и самоотверженной аскезе. Все эти пути обретения личной независимости возможны (сегодня так же, как и в глубоком прошлом) как исключение, а в конечном счете как эскапизм.
Возможность иного пути независимости складывается в буржуазную эпоху: это — независимость, основанная на собственности, на обладании деньгами. Буржуазная эпоха создает экономические и политико-правовые предпосылки социального раскрепощения человека. Это не значит, что не образуются иные, профессиональные или консуматорные, или суб- и масс-культурные «сети» его же закрепощения. Тем не менее, это безусловный прогресс в истории человечества. Однако с прагматической или предпринимательской точки зрения, независимость является действительно важной, приоритетной ценностью как выражение собственного «положения хозяина». Она необходима для успешного ведения дел. Но она не обязательна сама по себе. В каких-то условиях выгодным и успешным может стать не независимость, а конформизм, то есть сознательно, добровольно принимаемая индивидом зависимость от мнения других людей, группы или от ситуаций, складывающихся в процессе деловых отношений с партнерами, в особенности более сильными. При этом можно и не заметить, что свобода, поставленная в зависимость от торговой сделки, оказывается проданной свободой, т. е. несвободой.
Эти два пути личной независимости прямо противоположны: независимость мудреца, аскета-отшельника зиждилась на самоотречении, независимость буржуа — на приобретении, на увеличении капитала. Однако формально говоря, ни один, ни другой путь не гарантирует от внутреннего рабства. Ведь провозгласить «Я сам!» еще не значит заявить о своей личностности, это всего лишь провозглашение своей неподотчетности другим. У иных же после освобождения от рабства за душой может не остаться ничего — только пустота, оборачивающаяся, как уже отмечалось, эгоизмом, своекорыстием, разнузданностью и т. д.
В независимости свобода обнаруживается отрицательно, как «свобода от чего-то». Это действительно актуальная жизненная задача в условиях личной закрепощенности, в каких бы формах она ни заключалась.
Как социальная и политико-правовая проблема эта задача в принципе решается в Европе и в некоторых других частях мира в ходе буржуазных революций XVII–XIX вв., в ходе которых был разрушен феодальный общественный порядок. В США — в ходе отмены рабовладения. В ХХ в. аналогичные проблемы решались (но еще не решены до конца) в борьбе против разнообразных тоталитарных режимов, а также их авторитарных разновидностей.
Но успех в решении проблемы гражданского раскрепощения человека везде зависел не столько от решительности, с какой ломалась машина угнетения, сколько от терпеливой последовательности в установлении правового порядка — вида общественной дисциплины, в рамках которой не только государственные и общественные институты гарантируют свободу граждан (а свобода людей как граждан закреплена в системе прав как политических свобод), но и сами граждане гарантируют свободу друг друга исправным соблюдением своих гражданских обязанностей. Этот подход к проблеме политической свободы, называемый либерализмом, также получил развитие в буржуазную эпоху (хотя под словом «буржуазность», имеющем обычно негативный смысл, понимается не либеральность, а «голый» прагматизм, пренебрежение высокими ценностями в угоду «золотому тельцу», т. е. барышу, материальному богатству).
Понимание свободы как самообладания вырабатывается в рамках именно морального воззрения на мир. Воля обнаруживается как свободная через обуздание своеволия. В сфере права это — подчинение личной воли общей воле, выраженной в общественной дисциплине, поддерживаемой в первую очередь государственным законодательством. В сфере морали это — сообразование личной воли с долгом. Образно это выражено в известной английской пословице, «Свобода моего кулака ограничена кончиком чужого носа»; в ней речь идет о свободе вообще: свобода одного человека ограничена свободой другого.
Отрицательная свобода, или независимость предстает, таким образом, уже не как своеволие, а как автономия. Автономия выражается в: (а) неподопечности, т. е. в свободе от патерналистской опеки и тем более диктата с чьей-либо стороны, в том числе со стороны государства; (б) действиях на основании норм и принципов, которые люди признают как рациональные и приемлемые, т. е. отвечающие их представлению о благе, (в) в возможности воздействовать на формирование этих норм и принципов (в частности, в порядке публичного обсуждения и законодательной инициативы), действие которых гарантируется общественными и государственными институтами.
Отсюда не следует, что люди должны отказаться от своих частных целей и непременно стать законченными альтруистами. Но каждый человек, стремясь к достижению частных целей, должен оставаться в рамках легитимности, т. е. в рамках признанных и практически принятых норм. Каждый в своих действиях должен воздерживаться от произвола. С точки зрения психологии поведения, автономия выражается в том, что индивид N действует в уверенности, что другие признают его свободу и из уважения (а не из страха) не препятствуют ей, а также в том, что N утверждает свою уверенность в действиях, демонстрирующих уважение к свободе других.
Через такое понимание свободы нам раскрывается еще одна характеристика моральных норм. С социологической и исторической точек зрения они, возможно, могут представать как относительные. Однако их социально-историческая относительность всегда выше индивидуальных предпочтений и ситуативной изменчивости. Каждый должен воздерживаться от произвола. Но критерий произвола — надперсонален и надситуативен. Нормы могут обсуждаться, корректироваться, кардинально меняться. Но принятые, они становятся безусловным критерием поступка, т. е. не подвергаемыми сомнению или обсуждению по отношению к конкретным ситуациям и включенным в них лицам.
В морали правовая формула «Свобода одного человека ограничена свободой другого» переосмысливается как личная нравственная задача: «Я ограничиваю собственное своеволие, исполняя свой долг: соблюдая права других, не допуская несправедливости в отношении других, содействуя их благу». Она имеет и строгую форму императива: «Всегда ограничивай собственное своеволие, подчиняя его соблюдению прав других, не позволяя себе несправедливости в отношении других, содействуя их благу».
Свобода выбора и ответственность. Отрицательная свобода как автономия обращается в свободу положительную: автономия означает уже не только отсутствие внешнего давления, ограничения, принуждения, но и возможность собственного выбора. «Свобода не выбрать весьма убога» (И. Бродский). Свобода оказывается «для чего-то»: по крайней мере для осуществления выбора. Идея свободы воли, по поводу которой в истории мысли было столько дебатов, реализуется в свободе выбора, в возможности, способности и праве человека выбирать предпочтительное из альтернативных целей или задач.
Одно из распространенных определений морали относит ее к способам нормативной регуляции поведения, наряду (или однопорядково) с обычаем, правом, традицией и т. д. Допустимость такого определения обусловлена тем, что мораль действительно, как мы видели, формулирует требования относительно того, на какие ценности должен ориентироваться человек в своих действиях. Однако моральные принципы и нормы отличаются от большинства других систем регуляции. Во-первых, они выходят за рамки социальных, гражданских, религиозных и т. д. установлений. Они не обращаются к человеку как члену какого-то сообщества, организации, профессии, конфессии и т. д. Они обращены к человеку как таковому. (Повторим, что в этом, в частности, проявляется их универсальность).
Во-вторых, они не имеют исключительного предметного содержания. Большинство моральных требований являются одновременно требованиями, санкционированными в рамках регуляторов иного вида. Убийство, кража, лжесвидетельствование преследуются по закону. (В прошлом большинством законодательств запрещалось и прелюбодеяние; в законодательстве некоторых мусульманских стран кара за супружескую неверность сохраняется и поныне, в особенности для женщин). Свобода (как политические свободы), равенство (как гражданские права), справедливость в современных государствах обеспечивается системой права. Помощь и забота вменяются разного рода нормами общинного, соседского общежития, профессиональной солидарности, а также этикета. Каждая система регуляции предполагает свободу воли (выбора) у того, к кому она обращена; но это свобода человека как члена определенного общества, представителя сообщества, профессии, конфессии и т. д. Свободу воли предполагает и мораль. Она также формулирует определенные требования. Но это — требования к человеку относительно решений и действий, до которых никакие правовые, локально-групповые, административно-корпоративные, конфессиональные или иные нормы «не дотягиваются» за отсутствием соответствующих средств контроля. Моральная задача ставится перед человеком не просто как свободным принимать то или другое решение, но и свободным по отношению ко всем существующим регулятивам. Мораль обращается к человеку от имени всех людей, а значит и от имени его самого. Она не угрожает никакими санкциями, она обращается лишь через голос совести, предоставляя человеку возможность быть свободным и от неприкаянности, иными словами, отвечать хотя бы перед собой и хотя бы за себя.
Оттого мораль и воспринимается нигилистическим и анархистским сознанием как самая суровая тирания. Мораль действительно тиранична. Однако это тирания, которую человек должен осуществлять в отношении себя самого. В отличие от других инструментов социальной дисциплины, которые обеспечивают противостояние человека как члена сообщества (как «социального животного») природным стихиям, включая природу самого человека: мораль призвана обеспечить самостоятельность человека как духовного существа (как личности) по отношению к его собственным склонностям, спонтанным реакциям и внешнему давлению. Точнее, это обеспечивается самим человеком как моральной личностью. По своей внутренней логике мораль обращена к тем, кто считает себя свободным, кто в своих решениях и действиях руководствуется собственным пониманием правды, а не тем, «как принято».
Мерой свободы человека задается и мера его ответственности. Понятно, что человек ответствен и в рамках называвшихся выше регулятивных систем, однако ими же ответственность и ограничена. В морали человек ответствен перед самим собой, а перед другими — в той мере, в какой он признает их своими-другими, т. е. частью своей суверенности, в какой других он принимает как продолжение себя самого или как таких, которые представительствуют его, через которых он оказывается представленным. Соответственно в морали человек ответствен только за самого себя: за сохранение своей внутренней свободы, своего достоинства, своей человечности. Но и за других, в той мере, в какой он признает их своими-другими.
Когда Ж.-П. Сартр говорит: «наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, т. к. распространяется на все человечество...», он исходит из того, что человек, поступая определенным образом, утверждает идеальный образ человека и тем самым выбирает в себе человека, стремящегося до конца исполнить свой долг, или проявить себя в качестве совершенно свободного человека. Но совершенная полнота свободы человека и есть только идеал, в чистоте образа которого человек явлен универсально, по ту сторону добра и зла, безгрешно, бесплотно — в абсолютности своей духовности.
По мере расширения круга тех других, перед которыми и за которых человек считает себя ответственным в своей свободе, он преодолевает тесные пределы условности, или частичности своего существования.
Здесь возникает вопрос, требующий этического внимания: возможен ли «обратный» ход рассуждения — от ответственности к свободе? Справедливо ли считать, что по мере принимаемой человеком на себя ответственности повышается мера обладаемой им свободы? Поскольку свобода и ответственность рассматриваются нами как сопредельные понятия, было бы логично ответить на этот вопрос отрицательно: ведь индивид освобождается через страдание самоограничения, обуздания своеволия, через утверждение в себе сознания долга; ответственность как бы оправдывается обретаемой свободой. Может ли свобода быть оправданной ответственностью? Мы начали рассуждение с разведения свободы и своеволия. Так же и ответственность может быть разной: той, которая накладывается групповыми, корпоративными, служебными или какими-то иными локальными обязанностями, но это, скорее, подотчетность; и той, которая самостоятельно принимается личностью в качестве личного и универсализуемого долга. Самоограничение практически проявляется в самообладании: в подчинении склонностей долгу, своеволия — свободе, подотчетности — ответственности. Иначе и не может быть, если серьезно отнестись к высказанному выше положению, что мера свободы человека удостоверяется мерой его ответственности.
Свобода духа. Путь нравственного совершенствования человека можно представить как путь освобождения: от обретения независимости и способности проявлять себя неподотчетно, к способности волить, само-стоятельно ограничивать себя в своих прихотях и, далее, к свободному самоопределению себя в должном — к добру. Однако зададимся следующим вопросом: может ли быть свобода в добре, т. е. при осуществлении выбора между злом и добром в пользу добра?
Мы уже отмечали принципиальную незавершенность совершенства как нравственной задачи. Добавим: принципиальную неосуществимость совершенства во всей его полноте; в таком виде это сверхчеловеческая задача. Однако потенциально незавершаемый путь совершенствования всегда имеет четко определенную точку исхода. Освобождение начинается с самоограничения. В негативной «свободе» произвола, в «свободе от» еще нет свободы позитивного решения. Решения, обращенного в действие — творчески насыщенное, благо-творное и добро-детельное. Однако в положительной свободе, в «свободе для» вполне сохраняется жизненная энергия своеволия в виде настроенности на самостоятельность, самоутверждение, созидание себя вовне. Более того, позитивная свобода как правило сохраняется и при утрате свободы внешней, при попадании в зависимость от внешних обстоятельств. Можно ли представить себе более свободного внутренне человека, чем Эзоп, и в рабстве остававшийся поэтом!
Ж.-П. Сартр начинает очерк «Республика молчания» (1944) с пронзительного откровения: «Никогда мы не были так свободны, как в период оккупации».
Можно сказать, что в условиях ограниченности соблазнов и исключительности жизненных целей (в данном случае: освобождение Родины, физическое выживание в условиях нечеловеческих и нечеловеческого сопротивления захватчикам) ощущение счастья и чувство свободы ближе. Но такие условия с очевидностью указывают и на другое: действительно прочувствовать и испытать свободу можно при стремлении не избавиться от голода и сбросить оковы, но сохранить свое человеческое достоинство, пусть в борьбе с голодом или поработителем. Опыт свободы возможен при условии сориентированности на идеальные ценности, приближаемые посредством осуществления реальных целей. Именно в таких условиях «выбитости» из привычного жизненного уклада, когда человек остается один на один с бес-человечностью (в виде ли крайне жестких обстоятельств или безмерно жестоких людей), он имеет возможность вполне подтвердить свою нравственную автономию только очевидно свободной приверженностью тому, что повелевается долгом, т. е. добру.
На этой высшей ступени разрешается кажущееся неразрешимым противоречие свободы и необходимости, две стороны которого оказываются примиренными через взаимоотсечение. В свободном волении личность принимает необходимо данное долженствование. Личность утверждает свою автономию, т. е. независимость от внешних условий, решительным принятием автономного, т. е. приоритетного по отношению ко всем остальным, принципа. В свободно принимаемом и осуществляемом добре и заключена свобода духа.
Из статьи: Р. Г. Апресян. Свобода//Новая философская энциклопедия. М., 2001
Детерминистское отрицание свободы покоится на признании того, что и знание объективных условий, и признание правильного и должного суть своеобразная форма предопределения решений и действий, что и ситуация выбора ограничена данным набором возможностей, а то, что проявляется в качестве самостоятельного воления, есть на самом деле результат предшествующего (и не всегда осознаваемого) опыта индивида. С детерминистской точки зрения, даже если признать, что человеческая воля свободна по отношению к каузальным зависимостям природы, она не свободна по отношению к нравственному долженствованию; так что свобода — это иллюзия, как бы предоставляющая человеку возможность не руководствоваться никакими правилами. Наконец, если свободным считать субъекта (агента), который при наличии всех условий, необходимых для совершения действия, якобы может не совершить это действие, значит впадать в противоречие: либо условия некоего действия достаточны, и не нужно более ничего для его совершения (в том числе того, что называют «свобода»), либо они недостаточны, но тогда необоснованно объяснять свободу субъекта то, что действие не осуществляется (Гоббс).
В классической философии свобода — это характеристика действия, совершенного: (а) со знанием и пониманием объективных ограничений, (б) по собственному произволению (не по принуждению), (в) в условиях выбора возможностей, (г) в результате правильного (должного) решения: благодаря разуму человек способен совершать свой выбор, отклоняясь от зла и склоняясь к добру.
В характеристике свободы как действия согласно правильному и должному решению заключена важная проблема возвышения свободы от произвола к творчеству. В произволе и творчестве по-разному обнаруживается свобода — как свобода негативная и свобода позитивная. Это различие было предзадано в раннехристианском понимании свободы как преданности Христу — неявно оппозиционном античной идее независимости от внешних вещей и обстоятельств мудреца. Ап. Павел провозглашает призванность человека к свободе, которая реализуется через благодать. Различение негативной и позитивной свободы было очевидно и в Августиновом решении вопроса о свободе воли. Человек свободен в выборе не грешить, не поддаваться искушениям и вожделениям. Человек оказывается спасенным исключительно благодаря благодати; однако от его собственного выбора зависит принять грех или воздержаться от греха, и тем самым сохранить себя для Бога. Важным моментом в учении Августина о свободе было то, что им утверждалась не только возможность независимости от плотского, но и обращенность человека к Богу как высшему духовному совершенству. В отрицательном по форме определении свободы не как произвола, а как самоограничения Августином утверждалась позитивная свобода. Позиция Августина в этом вопросе предопределила рамку обсуждения проблемы свободы в средневековой мысли вплоть до Фомы Аквинского, который, восприняв аристотелевский принцип интеллектуально суверенного произволения индивида к идеальной цели, подчинил волю разуму: человек суверенен при осуществлении разумно избранного принципа действия. Полемизируя с томизмом, Дунс Скотт утверждал приоритет воли над разумом (как у Бога, так и у человека) и, соответственно, автономию лица, свободно избирающего принципы действия. По существу этот подход получил развитие в гуманизме Возрождения: свобода понималась как возможность беспрепятственного всестороннего развития личности.
Указывая на различие негативной и позитивной свободы, Кант именно в позитивной свободе усматривал действительную человечность и ценность. В этическом плане позитивная свобода и предстает как добрая воля; воля, подчиненная нравственному закону, остается свободной как законосообразная и самозаконодательствующая. Решая проблему соотношения свободы и необходимости Кант показал в третьей антиномии чистого разума, что свобода выбора поднимается над причинностью природы. Человек свободен как существо, принадлежащее к ноуменальному миру постигаемых разумом целей и одновременно несвободен как существо, принадлежащее к феноменальному миру физической причинности. Нравственная свобода обнаруживается не в отношении к необходимости, а в том, как принимаются решения, какие решения принимаются и какие действия сообразно этим решениям совершаются. У Канта это можно проследить в переходе от первого практического принципа категорического императива ко второму и в снятии этого перехода — в третьем принципе. Идея различия негативной и позитивной свободы была развита Ф. В. Й. Шеллингом, который в полемике со Спинозой и в особенности И. Г. Фихте, показал, что даже философия, система которой основывается на понятии свободы, т. е. которая усматривает в основе всего сущего творящую свободу, — способно только на формальное понятие свободы: живое же понятие свободы, по Шеллингу, состоит в том, что свобода есть способность делать выбор на основе различения добра и зла.
В постклассической философии происходит известная смена теоретических установок в решении проблемы свободы. Во-первых, в классической философии свобода — разумна; так, в философии Канта свобода представляет собой один из постулатов практического разума. Во второй половине XIX в. философская мысль (Ницше, Ф. М. Достоевский), а на рубеже веков и психология (Т. Рибо, З. Фрейд) приходят к пониманию несостоятельности рационалистической картины человека. Постклассическая философия определенно склоняется к убеждению об этической нейтральности разума (впрочем, эти идеи высказывались уже Б. Паскалем и представителями сентиментализма этического — в полемике с интеллектуалистской этикой); так в интуитивизме А. Бергсона свобода представляется первичным, принципиально неопределимым позитивно фактом сознания: Бергсон выносит свободу из пространственно рассудочных схем, — свобода проявляется во временном потоке душевной жизни как активность творческого Я. В постклассической философии складывается понимание того, что возможность разума воздействовать на страсти (аффекты) в значительной степени опосредствована действием воли, иррационального воображения и вдохновения как важного момента одухотворения. Как таковая свобода уже не ограничена выбором между данными возможностями, но есть выход из круга данностей и творческий прорыв к новому (посредством импровизации, рационального планирования или чистого воображения). При исчерпанности новационных возможности и завершенности творчества свобода может проявляться в самоопределении к смерти (А. Камю). Во-вторых, произвол рассматривается как непременный исходный пункт самой свободы. Освобождение начинается с самоограничения. В негативной «свободе» произвола, в «свободе от» еще нет свободы позитивного решения, обращенного в действие — творчески насыщенное, благо-творное и добро-детельное. Отчасти в близком к этому смыслу Ж.-П. Сартр говорит о моральном действии как свободном — «аутентичном» и ответственном, т. е. совершенном в соответствии с задачами, выдвигаемыми конкретной ситуацией действия. При этом в положительной свободе, в «свободе для» вполне сохраняется жизненная энергия своеволия в виде настроенности на самостоятельность, самоутверждение, созидание себя вовне. Свобода самоценна и в своем воплощении в произволе, но свобода=произвол должна быть «сублимирована» (Н. Гартман, Б. П. Вышеславцев): Я, овладевшее «Оно», должно подчиниться сверх-Я, сверхсознанию; однако подлинная свобода достигается при сублимации самого сверхсознания — подчинении личности сверхличным ценностям (С. А. Левицкий). Отсюда, в-третьих, человек полагается способным к произвольной самодетерминации в идеальной сфере ценностей. Последние более не мыслятся в качестве неизменных сущностей (Ницше), так что человек рассматривается свободным и в отношении мира ценностей (Гартман). Как это выразил Л. Н. Толстой, «человек не неподвижен относительно истины» — в признании или непризнании различных истин состоит его свобода. Более того, Бог «положил» человека свободным в отношении добра и зла; поэтому свобода — трагична (Бердяев, К. Ясперс). В этой изначальной свободе — источник как греховности человека, так и его творчества: человек в сознательном и творческом усилии предотвращается от зла и определяется по отношению к добру. Об этом говорилось и в классической философии: внутренняя свобода, т. е. добровольное и сознательное предпочтение человеком добра злу, есть главное, принципиальное условие совершенства, или полного добра (В. С. Соловьев). Однако вопрос, который ставился далее, заключается в следующем: возможна ли свобода в добре, т. е. по осуществленности выбора между злом и добром в пользу добра? (Л. Шестов, Бердяев, Вышеславцев).
Приложение:
Н. Бердяев о свободе. Из книги: О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии.
БОГ И СВОБОДА. РАБСТВО ЧЕЛОВЕКА У БОГА. Нужно делать огромное различие между Богом и человеческой идеей о Боге, между Богом как существом и Богом как объектом. Между Богом и человеком стоит человеческое сознание, экстериоризация и проекция ограниченного состояния этого сознания, стоит объективация. Объективированный Бог был предметом рабского поклонения человека. Но парадокс тут в том, что объективированный Бог есть Бог отчужденный от человека и над ним господствующий и вместе с тем Бог, созданный ограниченностью человека и отражающий эту ограниченность. Человек как бы попадает в рабство к собственной экстериоризации и объективации. Фейербах был прав, хотя этим совсем не решался вопрос о Боге. Человек творит Бога по своему образу и подобию и вкладывает в Бога не только лучшее в своем образе, но и худшее. На Боге, открывающемся человеческому сознанию, лежит печать антропоморфизма и социоморфизма. Социоморфизм человеческой идеи о Боге особенно важен для нашей темы. На человеческих идеях о Боге отразились социальные отношения людей, отношения рабства и господства, которыми полна человеческая история. Богосознание требует постоянного очищения, очищения прежде всего от рабского социоморфизма. На отношения между Богом и человеком перенесены были отношения между господином и рабом, взятые из социальной жизни. Когда говорили, что Бог есть господин, а человек есть раб, то мыслили социоморфично. Но в Боге и в Его отношении к человеку и миру нет ничего похожего на социальные отношения людей, к Богу неприменима низменная человеческая категория господства. Бог не господин и не господствует. Богу не присуща никакая власть, Ему не свойственна воля к могуществу, Он не требует рабского поклонения невольника. Бог есть свобода, Он есть освободитель, а не господин. Бог дает чувство свободы, а не подчиненности. Бог есть дух, дух же не знает отношений господства и рабства. Бога нельзя мыслить ни по аналогии с тем, что происходит в обществе, ни по аналогии с тем, что происходит в природе. В отношении к Богу нельзя мыслить детерминистически, Он ничего не детерминирует, нельзя мыслить каузально, Он не является причиной чего-либо. Тут мы стоим перед Тайной, и к Тайне этой неприменимы никакие аналогии с необходимостью, с причинностью, с господством, с причинностью в явлениях природных, с господством в явлениях социальных. Аналогия возможна лишь со свободной жизнью духа. Бог совсем не есть причина мира, он совсем не действует на человеческую душу, как необходимость; Он совсем не совершает суда, подобно суду в социальной жизни людей, Он совсем не есть господин и власть в жизни мира и человека. К Богу неприменимы все эти социоморфические и космоморфические категории. Бог есть Тайна, но Тайна, к которой трансцендирует человек и к которой он приобщается. Последним пристанищем человеческого идолопоклонства было ложное рабье богопонимание, рабье катафатическое богопознание. Не Бог поработил человека, Бог есть освободитель, поработила теология, теологическое прельщение. И по отношению к Богу возможно было идолопоклонство. И на отношения человека к Богу перенесены были рабьи социальные отношения людей. Бог, понятый как объект со всеми свойствами объективированного мира, стал источником рабства. Бог как объект есть лишь высочайшая, абсолютизированная природная сила детерминации, или высочайшая, абсолютизированная сила господства. То, что в природе есть детерминизм, то в обществе есть господство. Но Бог как субъект, как существующий вне всякой объективации, есть любовь и свобода, не детерминизм и не господство. Он сам есть свобода и дает лишь свободу. Дунс Скотт был прав, защищая свободу Бога, но из свободы Бога он сделал ложный и рабий вывод, признав Бога неограниченным властелином. О Боге нельзя себе составить никакого понятия, и менее всего применимо к Богу понятие бытия, которое всегда означает детерминизм и всегда есть уже рационализация. О Боге можно мыслить лишь символически. Права апофатическая, а не катафатическая теология, но права лишь отчасти. Это не значит, что Бог есть непознаваемое, как, например, у Спенсера. С Богом возможна встреча и общение, возможна драматическая борьба. Это встреча, общение и борьба личностей, между которыми нет ни детерминации и причинности, ни господства и подчинения. Единственный верный религиозный миф заключается не в том, что Бог — господин и стремится к господству, а в том, что Бог тоскует по своему другому, по ответной любви и ожидает творческого ответа человека. Патриархальная же концепция Бога зависит от социальных родовых отношений и их отражает. В истории человеческого богосознания нередко диавола принимали за Бога.
ПРИРОДА И СВОБОДА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРЕЛЬЩЕНИЕ И РАБСТВО ЧЕЛОВЕКА У ПРИРОДЫ. Существуют элементарные формы рабства человека у природы, на которые он не дает сознательного согласия. Таково насилие природной необходимости над человеком, природной необходимости вне человека и внутри его. Это есть рабство у так называемых «законов» природы, которые открывает и конструирует человек своим научным познанием. Человек борется с насилием этой природной необходимости через познание этой необходимости, и может быть лишь к этой сфере применимо то, что свобода есть результат необходимости, сознанность и познанность необходимости. Техническая власть человека над природой с этим связана. В этой технической власти человек освобождается, частично освобождается от рабства у стихийных сил природы, но легко попадает в рабство у самой созданной им техники. Техника, машина имеет космогонический характер и означает появление как бы новой природы, во власти которой находится человек. Дух в своей борьбе создает научное знание о природе, создает технику и экстериоризируется, объективируется, попадая в рабскую зависимость от собственной экстериоризации и объективации. Это есть диалектика духа, диалектика экзистенциальная. Но существуют более утонченные формы космического прельщения и рабства, на которые человек дает свое согласие и которые готов пережить экстатически. С природой, основанной на детерминизме и закономерности, человек борется. Но иное отношение у него к космосу, к тому, что представляется ему мировой гармонией, к мировому целому, единству и порядку. Тут соглашается он увидеть отображение божественной гармонии и порядка, идеальную основу мира. Космическое прельщение имеет разнообразные формы. Оно может принимать формы прельщения эротико-сексуального (Розанов, Лавренс), национально-народного (мистика народничества), теллургического прельщения земли и прельщения крови, расы, родовой жизни (возврат к земле, расизм), прельщения коллективно-социального (мистика коллективизма, коммунизм). Дионисизм в разнообразных формах означает космическое прельщение. Это есть жажда слияния с материнским космическим лоном, с матерью-землей, с безликой стихией, освобождающей от боли и ограниченности личного существования, или с безликим коллективизмом, национальным и социальным, преодолевающим раздельное, индивидуальное существование. Всегда это означает экстериоризацию сознания. У человека, задавленного условностью цивилизации, ее порабощающими нормами и законами, есть жажда периодически возвращаться к первожизни, к космической жизни, обрести не только общение, но и слияние с космической жизнью, приобщиться к ее тайне, найти в этом радость и экстаз. Романтики всегда требовали возврата к природе, освобождения от власти разума, от порабощающих норм цивилизации. «Природа» романтиков никогда не была «природой» естественнонаучного познания и технического воздействия, не была «природой» необходимости и закономерности. Совсем иное значит природа у Руссо, она иное значит и у Л. Толстого. Природа божественна, благостна, она приносит излечение больному и разорванному человеку цивилизации. Этот порыв имеет вечное значение, и периодически человек будет им захвачен. Но обнаруживающееся здесь отношение к природно-космическому основано на иллюзии сознания. Человек хочет победить объективацию, вернуть экстериоризированную, отчужденную природу, но не достигает этого реально, экзистенциально. Он ищет спасения от необходимости природы в свободе космоса. Слияние с космической жизнью представляется свободной жизнью, свободным дыханием. Борясь с необходимостью природы, человек создал цивилизацию, воздух которой удушлив, нормы которой не дают свободы движения. В самой жажде общения с внутренней жизнью космоса есть большая правда, но эта правда относится к космосу в экзистенциальном смысле, а не к космосу объективированному, который и есть природа с ее детерминацией. Космическое прельщение обыкновенно означало жажду слияния с душой мира. Вера в существование души мира есть вера романтическая. Обосновывается же она обыкновенно на философии платонической. Но существование космоса, как мирового единства и гармонии, существование души мира есть иллюзия сознания, порабощенного и раненного объективацией.
ОБЩЕСТВО И СВОБОДА. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕЛЬЩЕНИЕ И РАБСТВО ЧЕЛОВЕКА У ОБЩЕСТВА. Из всех форм рабства человека наибольшее значение имеет рабство человека у общества. Человек есть существо социализированное на протяжении долгих тысячелетий цивилизации. И социологическое учение о человеке хочет убедить нас, что именно эта социализация и создала человека. Человек живет как бы в социальном гипнозе. И ему трудно противопоставить свою судьбу деспотическим притязаниям общества, потому что социальный гипноз устами социологов разных направлений убеждает его, что самую свободу он получил исключительно от общества. Общество как бы говорит человеку: ты мое создание, все, что у тебя есть лучшего, вложено мной, и потому ты принадлежишь мне и должен отдать мне всего себя. Герцен был по своему миросозерцанию общественником, но у него были острые мысли, подсказанные его сильным чувством личности. Ему принадлежат слова: «Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее — продолжение человеческих жертвоприношений». И это святая истина. Если принять сделанное нами различение между индивидуумом и личностью, то можно сказать, что только индивидуум есть часть общества и подчинен ему, личность же не есть часть общества, наоборот, общество есть часть личности. Из того, что человек есть микрокосм и микротеос, следует, что общество, как и государство, есть составная часть личности. Экстериоризация общества, объективация общественных отношений порабощает человека. В первобытном обществе личность совершенно поглощена коллективом. Леви-Брюль верно говорит, что в первобытном сознании сознание индивидуума зависит от сознания группы. Но это не есть последняя истина о человеке. Общество есть особая реальность, ступень действительности. «Я» с «ты» есть иная реальность, чем «я» в «мы». Но общество не есть организм, не есть существо и личность. Реальность общества заключена в самих личностях, не в простом взаимодействии личностей, а в «мы», которое не есть абстракция и имеет конкретное существование. Реальность общества не есть особое «я», а есть «мы». Общение «я» с другими происходит в «мы». Это «мы» есть качественное содержание «я», его социальное трансцендирование. «Я» имеет общение не только с «ты», общение личности с личностью, «я» имеет общение и с «мы», т. е. с обществом. Но «я» входит в «мы» — общество, как часть в целое, как орган в организм, лишь в качестве индивидуума, в качестве природного человека. В качестве личности «я» никогда не входит в общество, как часть в целое, как орган в организм. «Мы» не есть коллективный субъект или субстанция. «Мы» имеет экзистенциальное значение, но не есть экзистенциальный центр. Экзистенциальный центр находится в «я» и в его отношении к «ты» и к «мы». Именно это отношение «я» не только к «ты», но и к «мы» есть источник экзистенциальной социальной действительности. Но объективация человеческого существования, выброшенность его вовне создает «общество», претендующее быть реальностью большей и более первичной, чем человек и чем личность. Общество есть объективация «мы», которое не имеет никакой реальности и никакого существования вне отношения к нему «я» и вне отношения «я» и «ты». «Мы» в своей экзистенциальности есть общность, общение, община (communauté), а не общество. Общество есть много-единство (С. Франк). Но это многоединство может быть «мы» в экзистенциальных отношениях «я» к «ты» и «мы». Тут скрыто рабство человека у общества. То, что есть реального в обществе, определяется тем, что личность вступает в отношения не только к личности, но и к соединению личностей в обществе. Порабощающая власть общества над человеческой личностью есть порождение иллюзии объективации. Реальное «мы», т. е. общность людей, общение в свободе, в любви и милосердии, никогда не могло поработить человека и, наоборот, есть реализация полноты жизни личности, ее трансцендирования к другому. Зиммель в своей «Социологии» более прав, чем сторонники органической теории общества, когда он видит в обществе стихийное скрещивание воль и стремлений отдельных людей. Но у него «мы» как будто бы не обладает никакой экзистенциальной реальностью. Он прослеживает процессы обобществления человека, но непонятно, откуда берется сила обобществляющая. Рабство человека у общества находит себе выражение в органических теориях общества.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ И СВОБОДА. РАБСТВО ЧЕЛОВЕКА У ЦИВИЛИЗАЦИИ И ПРЕЛЬЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. Человек находится в рабстве не только у природы и общества, но и у цивилизации. Употребляю сейчас слово «цивилизация» в распространенном смысле, который связывает ее с процессом социализации человека. О ценностях культуры речь будет потом. Цивилизация создана человеком, чтобы освободиться от власти стихийных сил природы. Человек выдумал орудия, которые поставил между собой и природой, и потом бесконечно совершенствовал эти орудия. Интеллект был величайшим орудием человека, и в нем достиг человек огромной изощренности. Но это сопровождалось ослаблением инстинктов, организм человека начал деградировать, так как в борьбе орудия органические начали заменяться орудиями техническими. Человека цивилизации в разные эпохи преследовала мысль, что, отойдя от природы, он потерял свою целостность и первоначальную силу, он стал раздробленным. Кроме того, ставил человек вопрос о цене цивилизации. Человек соединялся с человеком для борьбы за жизнь со стихийными силами природы и для организации цивилизованного общества. Но очень быстро стал угнетать человек человека для этой цели, и возникли отношения господства и рабства. Робинзон начал угнетать Пятницу. Развитие цивилизации сопровождалось угнетением и эксплуатацией огромных масс человечества, трудящегося народа. И это угнетение оправдывалось объективными ценностями цивилизации. Цивилизация, по-видимому, не могла возникнуть и не могла развиваться иначе, как путем страшного социального неравенства и угнетения, она зачата во грехе. Это вопрос очень элементарный, и не он будет сейчас меня интересовать. Против цивилизации восставали такие люди, как Ж.-Ж. Руссо, как Лев Толстой, их восстание ставит уже более глубокую проблему. Сомнение в оправданности цивилизации очень характерно для русской мысли. И это связано не только с вопросом о социальном неравенстве и эксплуатации. В цивилизации есть яд, есть неправда, и она делает человека рабом, мешает ему достигнуть целостности и полноты жизни. Цивилизация не есть последняя цель человеческого существования и верховная ее ценность. Она обещает освободить человека, и, бесспорно, она дает орудия освобождения. Но она есть также объективация человеческого существования, и потому она несет с собой порабощение. Человек делается рабом цивилизации. Она не только создавалась на рабстве и порождала рабство в отношении к себе. Проблема стоит совсем не так, что цивилизации следует противопоставлять какое-то здоровое и блаженное варварство, какого-то природного человека или доброго по природе дикаря. Это совершенно натуралистическая постановка проблемы, настолько устаревшая, что о ней не стоит и говорить. Злу и рабству цивилизации невозможно противопоставлять добро и свободу природы. Суд над цивилизацией не может совершать природа, его может совершать только дух. Человеку цивилизации со всеми его недостатками противостоит не природный человек, а духовный человек. Цивилизация находится между царством природы и царством свободы, это промежуточное царство. И вопрос не в том, чтобы идти от цивилизации к природе, а в том, чтобы идти от цивилизации к свободе. Природа, к которой хотели вернуться романтики, к которой призывал Ж.-Ж. Руссо, к которой призывал Толстой для спасения от лжи цивилизации, совсем не есть природа, как объективированное царство детерминизма и закономерности, это иная, преображенная природа, очень приближающаяся к царству свободы, это не природа «объективная», а природа «субъективная». Особенно ясно, что «природа» у Льва Толстого, которая божественна, не есть природа беспощадной борьбы за существование и взаимного истребления, преобладания сильного над слабым, механической необходимости и пр., это преображенная природа, это само Божество. Но Лев Толстой приковывал эту природу к земле и земледельцу, к физическому труду, пользующемуся элементарными орудиями, т. е. придавал этому характер опрощения и возврата к примитивному состоянию. В действительности он хотел элементаризации материальной жизни, чтобы человек мог обратиться к духовной жизни, чему препятствует цивилизация. Отрицание цивилизации и ее техники никогда не бывает последовательным, всегда что-то остается и от цивилизации, и от техники, но в более упрощенных, элементарных формах. Это есть в сущности направленность воли к освобождению от власти множественного мира, к соединению с Единым, освобождению в Едином. Это есть желание перейти от раздробленности к целостности. За тягой к «природному», к «органическому» скрыта эта потребность освободиться от разделяющей множественности мира цивилизации и перейти к целостности и единству божественной жизни. Человек чувствует себя раздавленным этой нестерпимой множественностью, раздробленностью, условностью цивилизованного мира. Он находится во власти собственных орудий. Всякий знает, как затрудняет и порабощает человека обрастание множественностью вещей в его повседневной жизни и как трудно ему освободиться от власти вещей. Этим наделяет человека усложненная цивилизации. Человек закован в нормах и условностях цивилизации. Все его существование объективировано в цивилизации, т. е. выброшено вовне, экстериоризировано. Человек раздавлен и порабощен не только миром природы, но и миром цивилизации. Рабство у цивилизации есть другая сторона рабства у общества.
РАБСТВО ЧЕЛОВЕКА У САМОГО СЕБЯ И ПРЕЛЬЩЕНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗМА. Последней истиной о рабстве человека является то, что человек есть раб у самого себя. Он попадает в рабство у объектного мира, но это есть рабство у собственных экстериоризаций. Человек находится в рабстве у разного рода идолов, но это идолы, им созданные. Человек всегда является рабом того, что находится как бы вне его, что отчуждено от него, но источник рабства внутренний. Борьба свободы и рабства разыгрывается во внешнем, объективированном, экстериоризированном мире. Но с экзистенциальной точки зрения это есть внутренняя духовная борьба. Это следует уже из того, что человек есть микрокосм. В универсальном, заключенном в личности, происходит борьба свободы и рабства, и борьба эта проецируется в объективном мире. Рабство человека заключается не только в том, что внешняя сила порабощает его, но еще глубже, в том, что он соглашается быть рабом, что он по-рабски принимает действие порабощающей его силы. Рабство характеризуется как социальное положение людей в объективном мире. Так, например, в тоталитарном государстве все люди рабы. Но это не есть последняя истина феноменологии рабства. Было уже сказано, что рабство есть прежде всего структура сознания и известного рода объективная структура сознания. «Сознание» определяет «бытие», и лишь во вторичном процессе «сознание» попадает в рабство к «бытию». Рабье общество есть порождение внутреннего рабства человека. Человек живет во власти иллюзии, которая так сильна, что представляется нормальным сознанием. Иллюзия эта выражается в обычном сознании, что человек находится в рабстве у внешней силы, в то время как он находится в рабстве у самого себя. Иллюзия сознания иная, чем та, которую разоблачили Маркс и Фрейд. Человек рабски определяет свое отношение к «не-я» прежде всего потому, что определяет рабски свое отношение к «я». Отсюда совсем не вытекает той рабьей социальной философии, согласно которой человек должен терпеть внешнее социальное рабство и лишь внутренне освобождать себя. Это есть совершенно ложное понимание отношения между «внутренним» и «внешним». Внутреннее освобождение непременно требует и внешнего освобождения, разрушения рабьей зависимости от социальной тирании. Свободный не может терпеть социального рабства, но он в духе остается свободным и в том случае, если не в силах победить внешнего, социального рабства. Это есть борьба, которая может быть очень трудной и длительной. Свобода предполагает преодолеваемое сопротивление.
Эгоцентризм есть первородный грех человека, нарушение истинного отношения между «я» и его другим, Богом, миром с людьми, между личностью и универсумом. Эгоцентризм есть иллюзорный, извращенный универсализм. Он дает ложную перспективу на мир и на всякую реальность в мире, есть потеря способности истинного восприятия реальностей. Эгоцентрик находится во власти объективации, которую хочет превратить в орудие самоутверждения, и это самое зависимое существо, находящееся в вечном рабстве. Тут скрыта величайшая тайна человеческого существования. Человек — раб окружающего внешнего мира, потому что он раб самого себя, своего эгоцентризма. Человек рабски подчиняется внешнему рабству, исходящему от объекта, именно потому, что он эгоцентрически самоутверждается. Эгоцентрики обыкновенно бывают конформистами. Тот, кто раб самого себя, теряет самого себя. Рабству противоположна личность, но эгоцентризм есть разложение личности. Рабство человека у самого себя есть не только рабство у своей низшей, животной природы. Это грубая форма эгоцентризма. Человек бывает рабом и своей возвышенной природы, и это гораздо важнее и беспокойнее. Человек бывает рабом своего рафинированного «я», очень отошедшего от «я» животного, он бывает рабом своих высших идей, высших чувств, своих талантов. Человек может совсем не замечать, не сознавать, что он и высшие ценности превращает в орудие эгоцентрического самоутверждения. Фанатизм есть именно такого рода эгоцентрическое самоутверждение. В книгах о духовной жизни рассказывается, что смирение может превратиться в величайшую гордость. Нет ничего более безвыходного, чем гордость смиренных. Тип фарисея есть тип человека, у которого преданность закону добра и чистоты, возвышенной идее превратилась в эгоцентрическое самоутверждение и самодовольство. Даже святость может превратиться в форму эгоцентризма и самоутверждения и сделаться лжесвятостью. Возвышенный идеальный эгоцентризм есть всегда идолотворение и ложное отношение к идеям, подменяющее отношение к живому Богу. Все формы эгоцентризма, от самых низменных до самых возвышенных, всегда означают рабство человека, рабство человека у самого себя, а через это и рабство у окружающего мира. Эгоцентрик есть существо порабощенное и порабощающее. Существует порабощающая диалектика идей в человеческом существовании, это есть диалектика экзистенциальная, а не логическая. Нет ничего страшнее человека, одержимого ложными идеями и самоутверждающегося на почве этих идей, это тиран и самого себя и других людей. Эта тирания идей может стать основой государственного и социального строя. Религиозные, национальные, социальные идеи могут играть такую роль поработителей, одинаково идеи реакционные и революционные. Странным образом идеи поступают на службу эгоцентрических инстинктов, и эгоцентрические инстинкты отдаются на службу попирающих человека идей. И всегда торжествует рабство внутреннее и внешнее. Эгоцентрик всегда попадает во власть объективации. Эгоцентрик, рассматривающий мир как свое средство, всегда выбрасывается во внешний мир и зависит от него. Но чаще всего рабство человека у самого себя принимает форму прельщения индивидуализма.
Библиография
Аврелий Августин. Исповедь. М., 1991.
Августин. О благодати и божественном произволении/Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987.
Антоний Сурожский (митрополит). Человек перед Богом. М., 1995.
Бердяев Н. А. Философия свободы/Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
Берлин И. История свободы: Россия; Философия свободы: Европа. М., 2001.
Вежбицкая А. Словарный состав как ключ к этнофилософии, истории и политике: «Свобода» в латинском, английском, русском и польских языках/Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
Виндельбанд В. О свободе воле/Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995.
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса. М., 1994.
Гильдебранд Д. фон. Этика. СПб., 2001.
Изард К. Эмоции человека. М., 1980.
Левицкий С. А. Трагедия свободы. М., 1995.
Лосский Н. О. Свобода воли/Лосский Н. О. Избранное. М., 1991.
Милль Дж.С. О свободе/Антология западноевропейской классической либеральной мысли. М., 1995.
Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М., 1995.
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм/Сумерки богов. М., 1989.
Соловьев Э. Ю. Личность и право/Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. М., 1991.
Столяров А. А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. М., 1999.
Федотов Г. П. Рождение свободы; Россия и свобода/Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб., 1992.
Франк С. Л. Крушение кумиров/Франк С. Л. Сочинения. М., 1990.
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
Ясперс К. Независимость философствующего человека/Ясперс К. Введение в философию. Минск, 2000.
Berlin I. Four Essays on Liberty. Oxford, 1969.
Joseph R. The Morality of Freedom. Oxford, 1986.
Ricoeur P. Freedom and Nature: The Voluntary and Involuntary. Northwestern U. P., 1966.
Тема № 222
Эфир 27.02.2003
Хронометраж 50:54
|
 27.02.2003
27.02.2003  50:54
50:54