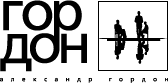gordon0030@yandex.ru
Художественная антропология
 13.05.2003
13.05.2003  50:24
50:24
 Стенограмма эфира
Стенограмма эфираВ чем причина популярности русской литературы в мире? В необычности ее взгляда, который казался новинкой для западноевропейского читателя, или в архаичности отношения к слову как мироустроительной силе, отчего Западная Европа давно отвыкла? О том, чем был и остается человек в представлении русской литературы, — филолог Валерий Мильдон.
Антропология — давно известный термин узкоспециального содержания: наука о человеке. В ХХ столетии этот смысл расширяется: философская антропология, религиозная, художественная. Последний вариант предполагает: что такое человек (его судьба, назначение, будущность) в художественном изображении, будь то живопись, музыка, архитектура, литература. Вообразим разговор о художественной антропологии, например, Скрябина или Малера, музыки немецкой либо русской.
В нашем случае речь пойдет о художественной антропологии русской литературы, а именно: что такое человек в ее представлении.
Русская литература (Р.Л.) как явление.
Сравнительно с литературой западноевропейской, русская молода. Еще в начале XIX в. русские мыслители признавали отсутствие у нас литературы. В 1833 г. Пушкин пишет незаконченную статью «О ничтожестве литературы русской». В конце 1 половины XIX в. Белинский сообщает, что у России есть своя литература, но европейского значения не имеет. Но уже в 1878 г. Тургенев объявил (на Конгрессе писателей в Париже), что русская литература стала общеевропейской.
Такого стремительного развития не знала ни одна литература, сейчас с этим отдаленно может быть сопоставлена (с необходимыми оговорками) лишь латиноамериканская.
В чем причина европейской популярности Р.Л.?
В этой самой художественной антропологии: А) взгляд Р.Л. на человека оказался новинкой для западноевропейского читателя; Б) архаическое отношение к слову как силе мироустроительной и миропереустроительной, от чего Западная Европа давно отвыкла.
Судьба человека в Р.Л.
а) Он брошен в мир, где не на что надеяться, принципиально чужой ему. Поэтому ни в одной литературе нет такого числа
Сиротство — один из примеров, ибо вся Р.Л. изображает судьбу человека неблагоустроенной, она и не может быть иной. Таков земной жребий человека. То, что в конце 1 половины ХХ столетия во французской литературе и мысли получит название экзистенциализма, экзистенциальной философии, явится лишь повторением (невольным, разумеется) основного антропологического тона Р. Л. Пушкин («Дар напрасный, дар случайный,//Жизнь, зачем ты мне дана?); Лермонтов и его близость Киркегору; герои и героини романов Тургенева с их фатальными несчастьями (А. Бем о Тургеневе); наконец, грандиозное завершение ведущей темы Р. Л. XIX в — творчество Чехова (проза и драмы): судьба человека настолько безнадежна, что не зависит ни от возраста, ни от пола, ни от социальной принадлежности персонажа; беден он или богат, умен или глуп — не имеет значения; особенно много у Чехова страдающих детей.
Оптимистический взгляд появился в Р.Л. с конца
б) Герой Р. Л. XIX в. остро осознает свою никчемность не в жизни, а в бытии, и это придает русским романам (от Пушкина до Толстого) философский характер: ум, талант, силы — и все это интегрируется смертью. Неразрешимое противоречие становится содержанием Р.Л. задолго до того, как об этом задумается герой западноевропейской литературы. Отсюда понятна одна из ярких формул Р.Л. — «горе от ума». Другая формула, выраженная заглавием романа Герцена, — «Кто виноват?» имеет неожиданное разрешение/ответ: никто. В одном из описаний зимнего Петербурга у Герцена сказано: «Еще не рассвело, а уже смеркается». Ситуация и впрямь ничем не исправима, разве что изменить само место. В этом и состоит экзистенциальный смысл.
в) Русский литературный герой убежден, что зло непреодолимо; что оно входит в состав бытия, поэтому любые социальные попытки избавиться от него ведут к злу еще большему (Достоевский).
г) Все это связано с тем, что Р.Л изображает человека абсолютно чуждым природе, с которой у него общее только зверство, дикость. Человек в Р.Л. феномен уникальный, неповторимый (Достоевский. «Записки из „мертвого дома“», «Записки из подполья»), чего не было в реальной жизни, где человек заменялся «массой», «народом», «человечеством». Поэтому так силен в литературе дух сочувствия человеческому жребию — тоже, кстати, новинка для западноевропейского читателя. Литература «опережала» жизнь, давала ей другое измерение.
Слово в Р.Л.
По причине этого другого измерения слово в Р.Л. сохранило тот архаический смысл, какого уже не было в литературах Западной Европы. Этот смысл предполагал способность слова воздействовать на физический порядок мира. Коль скоро действительность испокон неисправима, последняя надежда на слово. Гоголь с проектом трехтомных «Мертвых душ», его же «Выбранные места из переписки с друзьями». Литературная критика требовала от писателя общественного служения: Писарев; Н. К. Михайловский и его критика Чехова. Чистого искусства не любят, форма не считается условием мастерства, само мастерство не в почете. Этим были подготовлены большевистская эстетика и критика (ЛЕФ, Новый ЛЕФ, «литература факта», «социалистический реализм»).
Как писали, так и читали: слова литературного героя приписывались автору (мол, а кто написал?), к писателю относились, как к шаману; писатель сам частенько рассматривал себя «властителем дум». Тот же, кто изображал объективно, не вставал ни на чью сторону, казался подозрителен (рассказ Короленко о приеме Чехова в Союз писателей России).
Вот почему смысл литературного произведения вычитывался в том, что говорят персонажи; как это делается, не бралось в расчет, кратковременный интерес к форме в советское время (Серапионовы братья, Перевал) угас. Архаической поэтике (слово — преобразователь) соответствовала архаическая же практика чтения и понимания творчества.
Жизнь и творчество.
Эта практика, в частности, выразилась в отношении к «жизни и творчеству». На произведение писателя до сих пор смотрели и смотрят как на изображение его жизни. Творчество же больше жизни и не укладывается в рамки физического существования. Художник (писатель), садясь за работу, не предвидит итогов. Художественное произведение превосходит любой замысел, из незначительных планов рождаются грандиозные результаты (С. Лагерлеф, Т. Манн).
Вот почему художественный текст, согласно современной эстетике (науке о художественном творчестве), не делится на целое без остатка, и его нельзя ни понять, ни истолковать «до конца» — всегда остается «тайна», побуждающая очередные поколения разгадывать ее. Поэтому художественное произведение читается и читается, хотя исчезла действительность, его породившая. Художник (писатель), конечно, дитя своего времени, но никогда не помещается в нем. Наиболее яркий образец — творчество Чехова, едва ли не самого объективного (будь возможны здесь степени) художника.
Не по жизни писателя надлежит судить о его творчестве, а наоборот, ибо жизнь складывается под влиянием творчества, и писатель живет, как пишет. Что откуда берется — тайна для него самого, и бессмысленно его об этом расспрашивать. Он, конечно, расскажет, ни едва ли правду, которой и сам не знает о себе. Отчасти, чтобы разгадать ее, он и пишет, и графомания тоже отчасти объяснима этим.
Эта тайна художественного произведения, загадка творчества, коренящаяся в тайне человека, — одно из убеждений современной эстетики, которая обдумывает/анализирует опыт художественной антропологии.
Из статьи: В. И. Мильдон. Единица — вздор, единица — ноль. Тургенев и Ницше — образы нигилизма//Октябрь. 2002. № 11.
Возможно, первое совместное упоминание двух имен относится к марту 1872 года. В «Хронике жизни Ницше» приведено свидетельство: «К. фон Герсдорф записывает под диктовку Ницше... Совместное чтение: среди прочих книг „Отцы и дети“ Тургенева».
Затем русского и немецкого писателей соединил М. Хайдеггер: «Первое философское применение слова «нигилизм» идет,
Для Ницше, однако, значение слова «нигилизм» существенно «шире». Ницше говорит о «европейском нигилизме».
В этом сопоставлении мне увиделось содержание, объясняющее
Статья В. Зубова предназначалась Словарю русской художественной и философской терминологии, и потому давалось определение понятию: «Нигилист отрицает все реальное. Нигилист только отрицатель — такое заключение вытекало из термина. <...> По Кавелину, сущность всякого нигилизма — в теоретической односторонности, игнорирующей конкретную полноту жизни».
Всякого русского нигилизма, поскольку ничего подобного нет в европейском. «... „Европейский“ имеет здесь историческое значение, равносильное „западному“ в смысле истории Запада. „Нигилизм“, — пишет Хайдеггер, — употребляется Ницше как название им впервые осознанного исторического движения, истолкование самой сути которого он сводит к короткому тезису: „Бог умер“. Это значит: „христианский Бог“ утратил свою власть над сущим и над предназначеньем человека».
Философ увидел в ницшевском нигилизме явление историческое: отрицается все изношенное, исчерпанное и бессодержательное. Хайдеггер цитирует фрагмент 112 «Воли к власти»: «Приход в мир... настоящего нигилизма может в известных обстоятельствах оказаться признаком резкого... возрастания, перехода в новые условия существования. Вот что я понял».
Нигилизм в таком понимании свидетельствует, что осознана потребность в новом мировоззрении; что старое пребывает в кризисе и нуждается в пересмотре. Тургеневский Базаров вполне соответствует этой характеристике независимо от выводов, которые он делает из явной для него обветшалости старого. Как раз в этом отношении он вполне близок Ницше, изредка попадаются почти прямые совпадения. Во время очередного спора Базарову говорят: «Вы славянофил. Вы последователь Домостроя. Вам бы плетку в руки! — Плетка дело доброе, — заметил Базаров...» Похоже говорит один из персонажей поэмы Ницше: «Ты идешь к женщине? Не забудь плетку!»
И все же за неоспоримыми в ряде случаев совпадениями скрыта глубокая внутренняя разница.
Что Ницше выразил подлинную (а не воображаемую им) потребность европейского человечества в пересмотре былых ценностей и ощущение (и осознание) неприемлемости сложившегося порядка — культуры, политики, хозяйства, социальных отношений (то же относится и к Тургеневу с его Базаровым) — подтверждается, в частности, появлением и на Западе, и в России сочинений, герои которых тоскуют по новому человеческому типу. Возможно, первым эту потребность почувствовал и выразил Достоевский. Кириллов в «Бесах» произносит страстный монолог: «Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. <...> Тогда новая жизнь, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы и до уничтожения Бога (ницшевское „Бог умер“) и от уничтожения Бога до <...> перемены земли и человека физически».
Хотя герой не говорит этого напрямик, в его словах слышится неудовлетворенность не просто сложившимися отношениями, но косвенное признание неудачи самой эволюции, в результате которой появился современный человек. Эти настроения получат развитие в конце XIX — начале ХХ столетий. В «Острове доктора Моро» (1896) Г. Уэллса, например, герой проводит эксперимент над животными, чтобы разгадать механизмы биологического развития и отправиться другим путем к новому человеку.
М. Булгаков использует прием английского писателя в «Собачьем сердце» (1925), однако герой Уэллса —
Персонаж Уэллса озабочен повышением человеческого типа; профессор Преображенский убеждается, что любые переделки, вызванные намерением улучшить человека и для этого изменить социальные условия, приведут лишь к понижению типа. Где за дело берутся, отправляясь от разрушения, там и получат в итоге разрушение. Этого не осознавал Базаров, хотя его философия давала основание предположить «булгаковский» результат.
Иначе думал Ницше: «Мы, философы, не вольны проводить черту между душой и телом, как это делает народ, еще менее вольны мы проводить черту между душой и духом. Мы не
Ясно, что и понятие «нового человека» в двух системах нигилизма содержит противоположные смыслы, о чем бегло говорилось выше: ницшевский нигилизм «повышает» человека, базаровский «понижает».
«Слово „сверхчеловек“ для обозначения типа самой высокой удачливости, в противоположность „современным“ людям, „добрым“ людям, христианам и прочим нигилистам...» (Ф. Ницше. Ecce homo. 1888).
«Нигилист» у Ницше равнозначен «добрым людям». Чистый нигилизм («наше дело разрушать» — основной тезис Базарова) оборачивается классической пошлостью «доброго человека», который не видит дальше своего носа и потому не знает, куда деваться от самого себя, ибо глубоко и безысходно надоел сам себе, хотя едва ли признается в этом, да ему это и невдомек. Вот почему преобладающая черта психологии пустых душ, сжигаемых вечной скукой, — ненасытное любопытство к чужим жизням, сопровождаемое даже не ходячей, а попросту мертвой моралью, то есть чистейшим аморализмом — беспринципностью, безответственностью. С одной стороны, таков этот тип изначально, с другой — такова воображаемая эволюция Базарова, и те, кто пошел за большевиками, идеально удовлетворяют этой характеристике. Просится на ум поэма Блока «Двенадцать»: восьмая глава начинается и заканчивается признанием героев в острой скуке.
Что это за настроение? Самое распространенное, от него бегут герои европейской литературы, и среди них русские. Столь же распространено и средство от скуки — разрушение, нигилизм в действии. Базаров не таков, не чета Ситникову и Кукшиной. Те нигилисты как раз от нечего делать и легко вообразимы либо членами красногвардейского патруля в «Двенадцати» Блока, либо участниками революционных спевок у Швондера в «Собачьем сердце» М. Булгакова.
И все же Базаров недалеко ушел от них по сути своего мировоззрения, на это намекает его фамилия. Психологически разрушение черпает из невысказанного признания бессмысленности мироустройства и якобы потому бесцельности и ненужности собственного существования. Внутреннюю пустоту — следствие подобной философии — нужно
Эта пустота обнаруживает смысл базаровского отрицания: оно — оборотная сторона той мертвой морали, для которой человек — один из элементов бесконечного органического мира, не имеющий индивидуального отпечатка. Вот почему, повторяю, так влечет чужая жизнь, так нет никакого дела до собственной, ибо ее попросту нет. Мужественное поведение Базарова незадолго до смерти, которую он, опытный медик, рассчитал едва ли не по минутам, может иметь и такой оттенок, весьма важный для понимания взглядов персонажа: если та же лягушка, только на двух ногах, не о чем сожалеть.
Базаровский нигилизм исполнен пафоса тотального разрушения, и ему, как ни странно на первый взгляд, служит все, созиданием чего он занят. Созидание — только средство, инструмент, обеспечивающий наиболее полное разрушение. «Но ведь надо же и строить», —
Несколько черт свойственны, согласно проницательному изображению писателя, русскому нигилисту. Среди них — абсолютная убежденность в своей правоте как оборотная сторона веры в избранное учение. Ближайшими литературными продолжателями Базарова являются персонажи «Что делать?» (1863) Чернышевского, новые русские люди, подчеркивает подзаголовок романа, появившегося через год после выхода книги Тургенева. Эти «новые» тоже хотят разрушить старое, которое — независимо от их убеждений, но по логике разрушения — восстанавливается в куда более безрадостном виде. На чем держится их вера? На том, что в мире нет ничего, что не имело бы рационального объяснения, средствами которого разрешаются все загадки. Если
Это — наиболее полная художественная критика нигилизма как такового, особенно в его русской версии.
Другая черта Базарова — нежелание признавать поражение собственной логики. Влюбившись в Одинцову, он, поклонник естественных наук и эксперимента, не догадывается, что столкнулся с неведомым феноменом, который не помещается в известной ему системе понятий: природа не храм, а мастерская. Он подошел к проблеме, как мастеровой, и любовь осталась для него загадкой. Базаров ведет себя не как исследователь, доказывая этим, что наука для него едва ли цель, скорее средство. К чему? У Тургенева нет ответа, ответило будущее: к власти над людьми — чем же еще идеально заполняется страшная пустота души?
Наконец, третья черта Базарова (и нигилизма), вытекающая из первых двух, — упрощенное представление и о мироустройстве, и — поэтому — о месте в нем человека, и, разумеется, о самом человеке. «И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты
Пафос тотальных (синоним: немудреных) решений всегда находит сторонников — и в романе, и в жизни: простое доступно, понятно, не требует никакого труда, разве механического, даже образование необязательно, хватит природной смекалки. Главное — ты всегда прав.
Для западного ума представление «человек — тайна» никогда не умирало, хотя существовали и, вне всяких сомнений, будут существовать ревнители «антропологической статистики» и «больших цифр». Запад знавал тяжелые, кризисные эпохи (религиозные, гражданские, мировые войны), но и в этих исторических несчастьях индивид как субъект суждения никогда не исчезал.
Человек — тайна, человек — загадка — вот основание гуманистического, то есть просвещенного взгляда. Чем больше света, тем лучше видно темное, неизведанное в человеке. Просвещенный ум признает свою ограниченность, и это признание — источник деятельности такого ума, стремящегося проникнуть в неведомое. Все ясно уму непросвещенному — вот, кстати, почему Смердяков лезет в петлю: если Бога (всеобъясняющей уму Смердякова схемы, в его случае Бог — вариант упрощения) нет, все позволено, а если так, нельзя жить. Логика верная по сцеплению доводов (и благо, что ее носитель применил ее только к себе, а
Когда Ницше писал «Бог умер», у него это имело иной смысл, чем у Смердякова.
Для Ницше (и западного нигилизма) это значило: старые ценности, некогда обнадежившие человека, потеряли содержание, отжили, но
Вот чем не обладал русский нигилизм: он не был порождением исторического движения, и потому ни о каком новом времени (и подлинно новом человеке) нельзя вести речь. Нигилизм Базарова, а с ним и русский нигилизм — типичный феномен циклического, а не исторического движения.
Совсем иное с западной разновидностью нигилизма, у Ницше, хотя есть и то, что сближает его с нигилизмом русским — решительное отрицание всего отжившего. Но и только — других точек соприкосновения нет.
Прежде всего, ницшевский нигилизм носит глубоко осознанный антропологический характер, в отличие, повторяю и повторяю, от русского, для которого человек есть величина глубоко относительная либо попросту не существующая в качестве объекта.
Что же Ницше? В философской поэме «Так говорил Заратустра» он писал: «Мои братья, не любовь к ближнему советую я вам; я советую вам любовь к дальнему». Акцент сделан на утверждении нового человеческого типа и потому — важнейшее отличие от логики русских нигилистов — на новых отношениях между людьми. В противном случае, как ни меняй действительно отжившие старые формы, экономические, политические и проч., при сохранении прежнего сознания они быстро восстановятся — вот почему надо начинать с человека, коль скоро о нем заботятся.
Но человек не интересовал ни русских нигилистов, ни их ближайших исторических последователей — социалистов, особенно в большевистской версии. Базаровская программа тотального разрушения во многом совпадает с революционной тактикой Ленина. В заметках «О нашей революции» (по поводу книги меньшевика Н. Суханова, 1923) он цитирует слова Наполеона: «On s’engage et puis... on voit». В вольном русском переводе это значит: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет». Вот мы и ввязались сначала в октябре 1917 г. в серьезный бой, а там уже увидели такие детали развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно, детали), как Брестский мир или НЭП и т. д. И в настоящее время уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу».
Как, увы, знакомо: все те же «большие числа», «с точки зрения мировой истории» и пр. Какие угодно «точки» идут в дело, кроме одной — точки зрения человека. И логика все та же, нигилистическая: сначала разрушим, а там посмотрим, и это не говоря о весьма характерном переносе лексики военного сражения в практику благоустройства гражданского общества. Легко предвидимы социальные последствия такого «переноса»: сталинский террор против собственного народа — непосредственное развитие «военной» логики Ленина.
Такая логика не имеет ничего общего с нигилизмом Ницше, у которого преобладает идея созидания. Можно, конечно, вообразить историческую ретроспективу, чтобы понять, как формировался нигилистический тип. Но в какую область отечественной истории ни заглянем, везде одно и то же: сначала разрушим, а там видно будет. Исторический подход обнаруживает, как ни странно, отсутствие истории — преемственности, последовательности, эволюционных перемен.
Любопытно сравнение двух революций — русской в октябре
В чем же причина отличия? Согласно Степуну в сознаниях русского и немца. Немцы (а раньше, добавлю, и французы, а еще раньше англичане) отказались от невозможного преобразования жизни ради возможного, хотя и далекого от идеала; «принялись за осуществление исторического смысла своей революции, решительно повернувшись спиной к ее сверхисторическому сверхсмыслу... В России таких деловых гасителей пламени не нашлось (прерываю цитату, чтобы напомнить из Блока: „Мы на горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем, / Мировой пожар в крови...“ — замечательная параллель к базаровскому: наше дело разрушать). И благодаря этому общая обеим революциям идея
Обнаруженная мыслителем разница двух революций дает повод еще раз подчеркнуть разницу двух типов нигилизма. Русский внеисторичен, сверхисторичен; немецкий историчен.
Исторический тип, даже оказавшись втянутым в революцию (в частности, в нацистскую), рано или поздно возвращается в русло эволюции, в историю: та, хотя и делает скачки, все же предпочитает постепенное движение.
Вот что самое важное в нигилизме Ницше как историческом феномене западной культуры — восприимчивость к тайне. Ради этого он предпринял невиданное по остроте отрицание западной культуры в ее исторически обветшалом состоянии. Прошлые ценности вступили в неразрешимый конфликт с изменившимся миром, и критика Ницше обнаружила это. В отказе от всего ложного, как бы ни было психологически больно, и состоит подлинное просвещение. Оно, быть может (и скорее всего), не открывает тайны человека, но поддерживает к ней неугасающий интерес; не позволяет низвести неповторимое индивидуальное бытие до уровня однообразного существования.
В этом заключена разница двух нигилизмов. Советский коммунизм оказался исторической разновидностью русского нигилизма, для которого человек не только не тайна, его попросту нет, лишь народ, родина, человечество — фантомы, не имеющие живого содержания. Подобный взгляд все еще господствует в сознании людей, населяющих Россию. Ее будущность — цветущая или угасающая — зависит от того, удастся ли избавиться от пренебрежения индивидуальной жизнью, по силам ли нам отбросить сверхисторический пафос нигилизма.
Из статьи: В. И. Мильдон. Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. Об одной
В 1801 году поэт А. И. Тургенев, выступая в Дружеском литературном обществе с небольшой речью, заметил: «Есть литература французская, немецкая, аглийская, но есть ли русская?»
Спустя сорок лет, в 1841 году, В. Г. Белинский написал: «...Существование русской литературы есть факт, не подверженный никакому сомнению». Однако
В 1878 году И. С. Тургенев на открытии Международного конгресса писателей в Париже обратился к собравшимся с такими словами: «Сто лет назад мы были вашими учениками; теперь вы нас принимаете как своих товарищей».
Из этого следовало: русская литература приобрела если не всемирное, то общеевропейское значение. Западный читатель нашел в ней то, чего не было в его литературах, что не шло ему на ум или переживалось как смутное, беспокоящее ощущение, не имевшее ни понятия, ни образа. Понятие некоторым из этих ощущений дал Киркегор в художественных и философских сочинениях, прочитанных, правда, уже в XX столетии. Одним из читателей был русский философ Л. Шестов. Кажется, он первый сблизил датского мыслителя и русского романиста в книге «Достоевский и Киркегард».
Теперь сопоставляются русский писатель и Киркегор тоже как писатель. Сравнение позволяет с большим основанием утверждать, что же нового привнесла русская литература в художественное сознание западного читателя, в духовную культуру европейского человечества.
Печорин — первый герой в русской литературе, позволяющий утверждать: причины того, что происходит с человеком, в нем самом, действительность же — лишь среда, место действия. Что произойдет в этом месте — зависит от человека, он — автор судьбы, творец жизни, подобный божеству. Лермонтовский роман, обезнадеживая человеческое существование, обожествляет человека — такому герою, конечно, тесно среди людей, относящих все на счет окружающего, да и людям с ним тяжело, хотя их к нему тянет, и мужчин, и женщин.
В прощальном письме Вера определила Печорина: «Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! Но в твоей природе есть
Его тайна в том, что он знает, что хочет того, чего нельзя получить, но чем более он в этом убеждается, тем сильнее хочет. В страстном монологе он объясняет Максиму Максимовичу, почему охладел к Бэле, прежде любимой: «...Во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как и к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня...» «Моя душа подобна Мертвому морю, через которое не перелететь ни одной птице, — достигнув середины, она бессильно падает в объятья смерти».
Цитата курсивом — из Киркегора, но не кажется ли, что эти слова на месте и в монологе Печорина, а если так, то вот они, понятия, объясняющие его болезнь: нет бессмертия, которого он страстно хочет, ибо лишь в этом случае получают смысл необъятные силы.
Совпадение в этом пункте русского писателя с датским свидетельствует, что и причина не в действительности (она очень разная в России и в Дании); и типология романтизма едва ли поможет, ибо есть нечто куда менее изменчивое, нежели история или художественные стили; есть тотальная обреченность, которая, как ни странно, и придает человеку черты божественности: в этом случае он — полный хозяин собственного существования или: должен им стать — больше не на что надеяться.
Первородный грех, синоним «болезни духа», заключается в стремлении к тому, чего не достичь, но с тем большим жаром это влечет. Подобное состояние Киркегор назвал экзистенциальным, и Лермонтов явился первым русским автором, выразившим его.
Да, болезнь духа, но потому сделать
Болезнь эта, согласно роману, именуется человеческим существованием, и потому мысль о нем Киркегор назвал экзистенциальной. «...Меланхолия будет угнетать человека до тех пор, пока <...> переход от бессознательной непосредственности к высшему сознательному развитию личности не будет совершен».
Значит, никогда, потому что упомянутый переход бесконечен. Пусть это расплата за «первородный грех», но тогда грех (болезнь) родиться человеком — такова причина всех несчастий Печорина. Он мучается оттого, что не может перейти к высшему развитию, чувствуя, что именно здесь исцеление от всех болезней, хотя догадывается, что, исцелившись, перестанет быть человеком; догадывается, что человечность — «хроническая болезнь», которой итог заранее известен. «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова [„бессознательная непосредственность“ Киркегора], другой мыслит и судит его [„высшее сознательное развитие личности“]».
Печорин знает, что его мука неисцелима, и Киркегор объясняет почему: не может совершиться переход к высшему развитию, он может совершаться — неразрешимое противоречие между отсутствием у человека высокого назначения и необъятными силами, которые, казалось бы, должны быть направлены на исполнение этого самого назначения, не зря же они даны.
Лермонтовский «сверхчеловек» хочет, чтобы предчувствие блаженства (вызванное ощущением в душе необъятных сил) не обмануло, сбылось — только и всего. Ясно, что такое блаженство (вечность, бессмертие — как ни назови) сверх человеческой природы (и вместе это «сверх» — самое человеческое в человеке), следовательно, для его достижения требуются и силы чрезвычайные — вот в чем, предположительно, критики усмотрели «ницшеанство» поэта.
Та же мысль владела Киркегором, сближение которого с Ницше сделается едва ли не общим местом европейской критики конца ХIХ — начала ХХ века. Поводов, действительно, хватает — чего стоит, например, беглое замечание датского мыслителя: «Быть вполне человеком —
Отчаяние роднит Киркегора с Лермонтовым, «сверхчеловечество» которого подтвердилось самым неожиданным образом: он оказался в числе русских авторов, любимых Ф. Ницше. Называю известный факт, чтобы подчеркнуть, какими неисповедимыми путями движутся рассеянные во времени умы, чтобы сойтись в некой воображаемой точке условного пространства.
Ничего нет — это и было причиной страха Киркегора, о чем уже говорилось, и если я повторяюсь, то лишь потому, что мысль Б. Поплавского кажется мне,
И последнее. В лекции 1929 года «Что такое метафизика?» М. Хайдеггер произнес: «Бывает ли в нашем бытии такая настроенность, которая способна приблизить его к самому Ничто?
Это может происходить и, действительно, происходит, хотя достаточно редко, только на мгновения, — в фундаментальном настроении ужаса. <...> Ужасом прикрывается Ничто».
Вновь — спустя почти столетие после Лермонтова и Киркегора — высказана мысль о причине ужаса, который охватывает человека. «Ничто» и сводило с ума Печорина, и понять это помогают переживания, описанные Киркегором. Подобная близость свидетельствует, что прежние оценки внутреннего содержания русской литературы, при всей их верности, нуждаются в дополнении. Ныне русская литература отчетливо видится феноменом всемирной духовной культуры, и это выводит ее за рамки национального значения, поскольку вопрос, ею поставленный (после Лермонтова он стал едва ли не главным), есть вопрос всемирный, касающийся судьбы каждого человека. Вненациональная природа литературы, выросшей в национальной среде, является новым условием, обнаруженным в ХХ столетии.
Библиография
Мильдон В. И. Отчего умер Гоголь//Вопросы литературы. 1988. № 3
Мильдон В. И. Чаадаев и Гоголь//Вопросы философии. 1989. № 11
Мильдон В. И. «Открылась бездна...»: Образы места и времени в классической русской драме. М., 1992
Мильдон В. И. Бесконечность мгновения: О национальном в художественном сознании. М., 1992
Мильдон В. И. Чехов сегодня и вчера: Другой человек. М., 1996
Мильдон В. И. Тринадцатая категория рассудка: Образы смерти в русской литературе
Мильдон В. И. Эстетика Гоголя. М., 1998
Мильдон В. И. Идея аналогий в художественном плане «Фауста» Гете: Поэтика театральности. М., 1999
Мильдон В. И. Региональная определенность творца: Ньютон и Морозов как истолкователи Апокалипсиса//Вопросы философии. 1999. № 9
Мильдон В. И. Вершины русской драмы. М., 2002
Мильдон В. И. Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. Об одной
Мильдон В. И. Единица — вздор, единица — ноль. Тургенев и Ницше — образы нигилизма//Октябрь. 2002. № 11
Тема № 251
Эфир 13.05.2003
Хронометраж 50:24