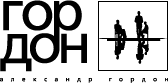gordon0030@yandex.ru
Зачем философия?
 19.06.2003
19.06.2003  50:33
50:33
 Стенограмма эфира
Стенограмма эфираУже Гегелем в XIX веке был поставлен вопрос о «конце философии»: философия, по Гегелю, не умирает, но она уже и не развивается. Почему, несмотря на более чем
Участники:
Ахутин Анатолий Валерьянович — философ
Калиниченко Владимир Валентинович — кандидат философских наук
Материалы к программе:
Из статьи А. В. Ахутина «Дело философии»:
Вообще говоря, дело философии — всегда новое, и у Аристотеля, не говоря уж, например, о неоплатониках, мы найдем существенное переосмысление этого дела. Но начало всегда особо показательно. Таково существенное ограничение, но и уточнение нашего дела.
...Мы собираемся заняться философией. Мы несем свои документы на философский факультет. Что если на пути нам встретится некий Сократ и, по своему обычаю, задаст вопрос: «Куда это ты идешь, любезнейший?» «Учиться философии», — ответим мы. «Похвально, друг мой! Но чему, собственно, ты хочешь выучиться, обращаясь к философии? Какому такому делу? — Вот если бы ты шел в консерваторию, было бы понятно, что ты хочешь научиться играть на
...Так если тебя занимает философия, — ... на чем хочешь ты сосредоточить внимание, в чем именно специализироваться?»
Сможем ли мы ответить Сократу — или самим себе — на эти вопросы? Или мы надеемся уяснить ответы потом, по ходу самого дела?..
Современный математик, к примеру, пожалуй, и может отшутиться: «Математика — это то, чем занимаются математики». В этой вроде бы шутке содержится, однако, намек для понимания сути дела. ...Не дело математики выяснять, чем, собственно, занимаются математики. Не так у философов. Есть, конечно, школы, направления, традиции, «измы», но
...Что общего, можем и должны мы спросить между логическим систематизмом Аристотеля и логическим же систематизмом, скажем, Гегеля? Все это вовсе не просто разные философские учения, но разные — еще не известно, как совместимые — формы философской мысли, разные самоопределения, самосознания философии в самой сути ее дела. При таком различии в самой технике работы, в каком смысле мы можем говорить, что они занимаются одним делом, а именно — философией? Сверх того: по каким признакам мы сможем отличить работу собственно философскую от сочинений, трактующих о тех же «предметах», но нефилософским образом?
...В чем ... особенность [философского дела], единственность, строгость? Что за искусство (ремесло, профессия, специальность) философия, в чем своеобразная техника философского дела?
...Чем занята философия, с чем она имеет дело? Что это за мудрость (софия), которой увлечен мудролюбец — Если же мы обратим внимание на само хранившееся веками название этого дела —
Все эти вопросы суть разные стороны одного вопроса — вопроса о призвании философа...
Не забудем впрочем, что мы пока еще в преддверии философии. Спросим же себя: а
В самом деле, почему, обращаясь именно к философии, мы думаем — или подозреваем, — что ни науки, ни религии, ничто другое не удовлетворит этого — философского — любопытства?..
Тем более, ходят слухи — и мы в них наслышаны, — будто философия это и есть сама «строгая наука», если и не наука наук, то логическое, методологическое, гносеологическое или феноменологическое обоснование самой возможности наук, научное основание научности вообще, истинности научного мышления. Стало быть, чтобы войти в философию, надо первым делом освоить научный метод мышления, освоиться в
Впрочем, слышно и другое: философия де коренится в том же опыте, что и религия, растет, как и все в культуре (в том числе и сама наука), из культа, вводит «естественный разум» в веру или растолковывает, раскрывает содержание прямого откровения, уже
Перелистав же иные книги, которыми нынче в обилии снабжают нас уличные коробейники, мы искусимся посвящением в тайную мудрость индусов, ацтеков, магов, антропософов, или прямо самого космоса. И эти посвящения тоже требуют особой — иной — техники: дыхательных упражнений, медитаций, изменения состояний сознания и пр.
Но положим, нас заинтересовало нечто новенькое, нечто, именующее себя современной, а то и
Наука с ее техникой и техника с ее наукой с разных сторон поставлены под большой вопрос. ...На каком основании этот вопрос может быть поставлен? Впрочем, может быть, под вопросом стоит сам разум со всеми его идеями и основаниями, и дело идет о том, чтобы его «преодолеть»?..
С другой стороны, в делах веры царит не меньшее замешательство. В нашем мире, становящемся единой, сообщающейся и всем сообщимой вселенной, существует несколько вселенских религий, и каждая из них страдает собственным раздором...
«Духи» всех времен встречаются друг с другом, ищут признающего их понимания, и не признают тех объективных квалификаций, которыми привыкли разделываться с ними и отделываться от них в этнографии, религиоведении, социопсихологии и других, может быть, более утонченных формах культурологического познания... Релятивизмом тут и не пахнет: сталкиваются духовные миры, интеллектуальные и нравственные вселенные, абсолюты. Если дело доходит здесь до речи, а речь — до слуха и смысла, она заходит о последних словах и первых началах.
...Требуется само умение спрашивать и решать, спрашивать и решать радикально, поскольку дело идет о корнях и началах, о первом и последнем.
Осмелюсь допустить, что если современная ситуация в
Вот почему мне кажется важным прежде всего поговорить не об «учениях», а именно о сути и технике философского дела. Потому что — повторим — совсем не ясно, как отличить собственно философию от мудрости мудрецов... Что же
Так спросим еще настойчивей: чем именно занимается философ как философ — в отличие от мудрецов, вероучителей, художников, ученых.
Вопрос о технике философского дела.
...Так — как все же, спрашиваю я, отличить философское думание и говорение, например, от речений мудрецов и пророков или — что гораздо насущней — от болтовни дилетантов или вещаний всевозможных учителей жизни?
Говорят: философ думает о «природе вещей», о Боге, мире, душе, свободе, быти?.. Но где и как он «берет» эти «предметы», чтобы о них думать? Не заимствует ли философия их... — у богословия, науки, поэзии? Может быть, философия и впрямь... способна лишь быть при деле, служить тем, кто занимается делом...
Философии и впрямь до всего есть дело... Но все эти дисциплины либо могут обходиться и без философии, либо давно уже, как говорится, отпочковались от философии, и с точки зрения специалистов в своем деле, философы, т. е. не специалисты именно в этом, специальном деле, способны произвести только подделки или неопределенные слова.
«Эти философы, — говорил Ричард Фейнман в своих „Лекциях по физике“, — всегда топчутся около нас, они мельтешат на обочинах науки, то и дело порываясь сообщить нам
Я бы только сказал не совпадает, а граничит. Причем граничит именно там, где «глубина и тонкость» научных вопросов достигает предельной остроты. Именно здесь, по свидетельству таких специалистов, как Г. Кантор, В. Вейль, А. Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, Н. Винер наука впадает в философию. В сферу специальных научных проблем с некоторых пор входят вопросы, как правило, маячившие
Но как это все же возможно? Какой такой изощренной техникой собственной мысли философия постигает вопросы науки?.. Дело в том, что эти предельные для современной науки вопросы суть вместе с тем и вопросы — для науки Нового времени — исходные, изначальные. Именно на
С другой стороны, было бы не странно услышать схожую отповедь философии и от духовного лица: эти философы постоянно топчутся возле церковных стен, они мельтешат на обочинах богословия, то и дело порываясь сообщить нам
...Христианская мысль Средних веков — и на Западе, и на Востоке — вырастала в школах, выстроенных неоплатонизмом и аристотелизмом. Заквашена она, однако, была Словом, «которое было у Бога и которое было Богом». Поэтому, вырастая, она перестраивала эти античные храмы на свой лад. Переустройство образа мысли, переосмысление самой идеи ума прямо относится к делу философии. Но к этому делу не относится и из него никак не вытекает ни покаяние (metonoia — тоже своего рода изменение ума), ни крещение во Христа, ни — главное — сам Иисус из Назарета. ...Богослов занят другим делом, в котором, конечно, может пригодиться некое орудие, изготовленное в философских школах (равно как и логика, грамматика, математика), но философу как философу тут слова не дается. Искусство богословского любомудрствования совсем другое, чем искусство философского рассуждения о Боге. Богословская «теория» предполагает совершенно особые «техне» и «праксис». Григорий Назианзин, один из трех
...И все же философия не случайно, не по недоразумению и не как служанка обращается к вере. Обращается именно там, где вера обращается к философии, обращаясь к самой себе с вопросом сомнения, мучая душу мыслью...
Почему, в самом деле, мы иногда верим, что многозначительная невнятица или напыщенная патетика иных философских сочинений есть свидетельство поэтической невыразимости скрытых в них мыслей? Почему, с другой стороны, мы порою верим, что достаточно разобрать особый мир художественного произведения (устанавливающего почтительную дистанцию к окружающему, — как говорится, реальному — миру) на поучительные истории, «образные» мысли или эстетические «категории», ходячие в этом окружающем мире, — или — растащить сплошное, сплоченное из слов, смыслов, идей, речений, интонаций, ритмов (сердца, дыхания, возгласов, жестов, погоды, истори?..), единственное слово стиха, живущего в стихии речи и языка, — растащить это слово на множество затасканных изречений и идеологем, — почему мы верим, что достаточно проделать эти операции с художественным произведением, чтобы извлечь философский смысл, будто бы
Но почему мы также не можем отделаться от уверенности, что философия в своей работе с мыслью и словом на самом деле близка поэзии? Может быть, и здесь мы снова касаемся тайны рождения — рождения слова в мысли и мысли в слове. Философия и поэзия (равно как философия и математика, философия и религия) действительно близки друг другу, но только там, где сохраняют свою бескомпромиссную чистоту, остаются — или впервые становятся — самими собой. Они близки не потому, что поэзия скрывает философские идеи или что идеи расплываются в неопределенной поэтичности, а потому, что искусство мысли и искусство слова подразумевают друг друга и внутренне граничат. Но граница эта может быть отчетливо проведена и смысл ее понят лишь в том случае, когда мы дадим себе отчет в том, что их различает именно как искусства. Весь вопрос опять в особой технике.
Вернемся, однако, к нашему абитуриенту и поставим вопрос еще круче. Как ты собираешься жить (чтобы не сказать — выживать) этим делом? Все искусства и науки, все дела человеческие
Побережемся, однако, от романтического соблазна мнить философию отвлеченным царством чистой мысли, возвышающимся над «презренной пользой». Мы всерьез спрашиваем о практическом, пусть даже утилитарном смысле философского дела. Попросту: зачем нужна роскошь философии в наши скудные времена?
Страх или Пир — начало философской премудрости?
...Странным образом, как только она — без надлежащего руководства — заговаривает о божественном, разговор получается «не телефонный» (Киник Кратет спросил однажды Стильпона, основателя мегарской школы: «Чувствуют ли боги радость от наших поклонений и молитв?» «Глупый ты человек, — ответил Стильпон, — такие вопросы задают не на улице, а с глазу на глаз!» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С.141). А с чего бы это Декарт — благочестивый католик — держался правила: «Хорошо прожил тот, кто хорошо укрылся»?).
Ведь в ней, в
Как трудно сжиться с этой жутью, не страшиться этого страха — начала премудрости. ...И может быть, все дело и искусство философии, весь ее труд состоят в одолении именно этой трудности, — в уяснении содержательного смысла «филии» —
...Пожалуй, нет лучшего введения в философию, лучшего способа уяснить нечто важнейшее в самой сути философского дела, чем выслушать от з/к Сократа отчет, оправдание (апологию) философии перед лицом судящей ее жизни.
...Конечно, Суд это не Пир, и «сама суть» философского дела, быть может, скорее способна сказаться на воле, в досужей, непринужденной беседе, не пугающейся празднословия и вольномыслия, чем в условиях суда, среди возмущенно шумящих афинян, под угрозой смертного приговора. Но только в этих условиях — испытывая свою решимость заняться философией возможной смертью за это дело — мы будем в состоянии понять всю меру человеческой нужды в философии как стойком и ответственном внимании человека к собственному бытию, деланию, верованию, думанию, говорению.
... Не будет,
Но, с другой стороны, понятно также и то, что эти простенькие с виду беседы, эти вопросы и отвлечения не так уж просты и безопасны. Жизнь, не с нас начавшаяся, вековым опытом выработавшая свои устои, уклады, ритуалы, традиции, навыки, свой благоустроенный обиход, ставится — на философском досуге — под подозрение, устои подрываются, умельцы, задавшиеся вопросом, как это они умеют то, что умеют, приходят в растерянность, перестают уметь свои умения. Закрадывается мысль — вот именно, закрадывается мысль, можно поставить точку. Закрадывается мысль, — не ходим ли мы в нашем обиходе «по воде, аки по суху», а лучше сказать, не висим ли мы со всеми нашими устоями над бездной?.. Естественно, в таком случае, задать вопрос самому вопрошателю: что это ты делаешь? Так возбуждается дело Сократа, не то, которое белыми нитками сшили Анит, Мелет и прочие, а то, которое явно или неявно пронизывает всю европейскую философию от Платона до Ницше по меньшей мере.
Искусство вопрошания.
Но что же
...Греческие
...Ну вот, к примеру, Хайдеггер. Он,
Другие философы, вроде Прокла, Спинозы, Гуссерля излагают свои учения как своего рода теории, и мы сами должны восстановить путь сократических вопросов, приведших к их основоположениям, чтобы понять их смысл.
...Вопросы философа могут завести его далеко, в края неведомые и странные. Надо уметь их расслышать и следовать им.
Искусство незнания.
Сократ дает нам и другой намек о сути философского дела. Искусство философствования, искусство сократического вопрошания можно — в согласии с Сократом — понять как искусство открытия незнания. Сократ не просто начинает с незнания, напротив, начинает он именно со знания и доискивается каждый раз до скрытого в нем незнания...
... Философию можно понять как искусство умного изумления.
Родовспомогательное искусство.
На воле, в родной стихии досужей беседы Сократ определяет свое дело иначе, чем на суде. Или поясняет нам с иной стороны смысл искусства вопрошания и незнания. В «Теэтете» Сократ сравнивает философствование с повивальным искусством своей матери Фенареты. Как
Вот, стало быть, в чем искусство сократического вопрошания обретает свое настоящее дело: не разоблачать мнимую мудрость, а помогать мысли родиться, воспитаться и стать на ноги. Какой мысли, о чем мысли?..
На первый взгляд, маевтический метод Сократа кажется только удачным педагогическим приемом. Ученик усваивает знания лучше, когда учитель помогает ему самому дойти до них...
Положим, так мысль и происходит везде, где она происходит. Чем же отличается собственно философская мысль? Может быть, только тем, что в философии мы сосредоточиваем внимание прежде всего на этом самом: как мысль происходит, как она вообще может происходить, как она может стоять на собственных ногах, существовать сама собой, сама по себе, как бы без меня (не быть только моим мнением), оторваться от пуповины моих внутренних
И мы уже, не правда ли, сами чувствуем, как втягиваемся в воронку затягивающих в себя непривычных размышлений. ...Например, продумывать возможность мысли, исходя из возможности бытия того, о чем она возможна, решать, как может быть одно многим и многое одним, — особое дело. Так мы пойдем путем Платона и античной философии в целом. Продумывать возможность знания, определяя,
И все же мы говорим об одном деле. Не забудем: мы, если верить Сократу, не обращаемся к учителям и авторитетам, но только к мысли, к самой мысли, где зачинаются, рождаются и сообщаются все философские учения...
1) Философа занимает мысль в состоянии рождения, в
2) Философа занимает мысль в состоянии рождения. ...Кто сказал, что мысль — это (1) наша (2) рациональная (3) способность? Как такое пришло на ум? Как мы могли подумать, что мышление — это...? Как произошло, что мы начали разуметь разум? Только с этими — первоосмысляющими — вопросами мы подходим к той изначальности мысли, к тому ее началу, которое, как мы предполагаем, занимает философа.
3) Философа занимает мысль в состоянии рождения и там, где его занимают другие дела: их замысел. ...Мысль втягивается в воронку философии, когда задается вопросом о начале, о рождении этой первоосмысляющей мысли: как, какой такой мыслью может быть помыслено то, что лежит в начале мысли и, стало быть, как будто бы мыслью не является (или именно мыслью являет себя?), что лежит за мыслью, способной особым образом осмыслить мир и замыслить отвечающие этому образу дела человека.
4) Философа занимает мысль в ее жизнеспособности, в ее изначальной (первородной) основательности, состоятельности,
5) Философа занимает не мысль, а возможность мысли, т. е. его занимает само бытие, поскольку оно чревато мыслью, рождает мысль, иначе говоря, — поскольку оно (бытие) не совпадает с тем, что в качестве бытия разумеется само собой. Философа занимает бытие не в его неопределенной наличности, а в его собственной бытийности, т. е. в его мыслимой возможности быть бытием (как возможно то, что не может не быть?) и в мыслимой же невозможности быть мыслью, а не бытием (которое не есть мысль). ...Что же рождает Теэтет с помощью Сократа в конце концов? Просто недоумение, т. е. ничто? Или, напротив, само бытие, таящееся в мудром незнании и все еще чреватое мыслью.
6) Всякое философское произведение есть философское (а далеко не все в философском произведении относится к философскому делу), поскольку заключает в себе мысль в состоянии рождения, вместе с ее рождением, более того, — обращенную к своему рождению, даже обращенную в свое рождение. ... Она содержит в себе саму себя. Порою поэтому приходится долго развинчивать и реконструировать произведение философа, чтобы открыть в нем философское произведение. Ярчайший пример — «Этика» Спинозы.
7) Всякое философское произведение есть философское, поскольку оно одновременно является и произведением (рожденным мыслящим существом) и, так сказать, родовспомогательным устройством, помогающим нам, сегодняшним юнцам и юницам, зачать и родить им в подол своего детеныша. Собственно это и есть единственно отвечающее назначению философского произведения его восприятие. «В известном смысле можно философию изучать и не быть способным философствовать», — говорил И. Кант...
8) Образ повитухи намекает не только на то, как действует философия, не только на то, что ее занимает, но наводит на мысль и о прагматическом смысле философского дела: зачем оно нужно. Философия, видно, призвана помогать
Диалектическое искусство.
А. Благо Сократа.
...Величайшее благо, по Сократу, не в том, чтобы быть добродетельным (пусть и уразумев, что значит быть добродетельным, в результате тщательных размышлений), не в том, чтобы жить в благоустроенном государстве (пусть законы этого государства и выяснены долгими трудами глубокомысленных политологов), не в том, чтобы почитать бога в культовом богослуженииа (пусть это почитание и просветлено вдумчивыми богословами), а единственно только в том, чтобы беседовать, каждодневно, снова и снова беседовать о добродетели, благоустройстве, благочестии. О воспитании, здоровье, красоте. О бытии. О мышлении, знании, истине. О самой бесед?..
B. Благо Платона.
Умением продолжить разговаривать — спрашивать и отвечать — там, где все другие «так называемые искусства <и науки>», а также, добавим, учения, универсальные теории, онтологии, агатологии, софиологии — свои разговоры кончают, установив исходные положения (первоначала, определяющие область и метод их специальных занятий, или даже всеобщие принципы и метафизические основания). Для «диалектика» эти
Но этот диалог, спор, это обсуждение только тогда бывает мыслящим, мышлением вслух, когда он сохраняет внимательность внутренней речи, которую ведет с самой собой душа, сосредоточенная на том, о чем эта речь ведется...
Так вот: искусство диалектики, — искусство, прокладывающее путь, по слову Аристотеля, к началам всех путей, — а равно и искусство философского диалога самих возможных начал — коренятся в самом элементарном внутреннем диалоге мысли, ежемгновенно в каждом из нас происходящем и ежемгновенно нами проглатываемом. Диалектическое искусство — искусство философской беседы — есть просто искусство мысли, есть мысль, возведенная в мастерство, в искусство. Еще проще: мысль, возведенная в саму себя, в свое собственное — умное — место. Проще некуда!..
...Мы вдумывались в дело философии вслед за Сократом, Платоном и отчасти Аристотелем. Их путь вводит в саму суть дела — и — остается их собственным, особым путем. Их собственным умом. Сути философского дела вообще можно следовать только собственным умом, только обретая собственный ум. Обрести же собственный ум, — которым никто не располагает от рождения, — можно, лишь вступая в содружество с друзьями мудрости. В частности, — с Сократом, Платоном и Аристотелем.
Библиография
Аристотель. Метафизика. СПб., 2002
Ахутин А. В. Тяжба о бытии. М., 1997
Бибихин В. В. Узнай себя. СПб., 1998
Библер В. С. Что есть философия?/На гранях логики культуры. Книга избранных очерков. М., 1997
Библер В. С. Быть философом/На гранях логики культуры. Книга избранных очерков. М., 1997
Библер В. С. История философии как философия/На гранях логики культуры. Книга избранных очерков. М., 1997
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.; СПб., 1998
Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000
Джеймс У. Введение в философию. М., 2000
Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1992
Ницше Ф. Сумерки идолов или как философствуют молотом.
Рассел Б. Проблемы философии. М., 2000
Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996
Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
Хайдеггер М. Что это такое — философия?//Вопросы философии. 1993. № 8
Ясперс К. Введение в философию. М., 2000
Тема № 271
Эфир 19.06.2003
Хронометраж 50:33