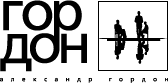gordon0030@yandex.ru
Технология творчества: Леонович
 05.01.2003
05.01.2003  47:16
47:16
Многие люди считают, что переводить литературу может каждый, кто знает иностранный язык. Какие требования к себе должен предъявлять переводчик, взявшийся за языковую интерпретацию чужого текста? Почему перевод для поэта — всегда возможность обогащения собственной поэтической палитры? О даре перевоплощения и умении вслушаться в другого — в цикле «Технология творчества» поэт и переводчик Владимир Леонович.
Участник:
Владимир Николаевич Леонович — поэт, переводчик.
Обзор темы:
Кари крис,Биографические сведения. Владимир Николаевич Леонович родился в Костроме. Учился в Одесском мореходном училище, Военном институте иностранных языков, на филологическом факультете МГУ, но не закончил их. Работал учителем русского языка и литературы, литературным сотрудником в газетах и журналах, разнорабочим в Сибири, Грузии, Костромской обл., Карелии.
Кари крис,
Кари крис...
Не умеешь — и врать не берись!
Переводчик, сломай карандаш:
Перескажешь — размажешь — предашь.
Это подлинник неуследим.
Подвиг подвигом переводим.
— В. Леонович (1978)
Печатается с 1962. Автор книг стихов: «Во имя» (М., 1971); «Нижняя Дебря» (М., 1983); «Время твое». Занимается переводами из грузинской поэзии. Автор стихов о Грузии. Переводил поэтов Грузии (Хута Гагуа) и Армении (Г. Эмин, М. Маркарян). Печатает также прозу. Член СП СССР (1974; выбыл по собственному желанию). Член редколлегии альманаха «Предлог» (2000).
Публикации последних лет: Знамя», № 10 за 1997 г. За уходящим светом. Стихи.; «Дружба народов», № 5 за 1998 г. Струна трепещет и светится.; «Знамя», № 8 за 1998 г. Натура. Стихи.; «Дружба народов», № 11 за 1998 г. Чтобы жить... Стихи; «Дружба народов», № 1 за 1999 г. От добра добра не ищут.; «Новый мир», № 3 за 1999 г. В четыре руки. Стихи.; «Дружба народов», № 4 за 1999 г. Продолжение диалога. Памяти Игоря Дедкова.; «Дружба народов», № 8 за 1999 г. Памяти Яна Гольцмана.
История вопроса (Из статьи А. Паршина «Теория и практика перевода»). Перевод — это несомненно очень древний вид человеческой деятельности. Как только в истории человечества образовались группы людей, языки которых отличались друг от друга, появились и «билингвы», помогавшие общению между «разноязычными» коллективами. С возникновением письменности к таким устным переводчикам — «толмачам» присоединились и переводчики письменные, переводившие различные тексты официального, религиозного и делового характера. С самого начала перевод выполнял важнейшую социальную функцию, делая возможным межъязыковое общение людей. Распространение письменных переводов открыло людям широкий доступ к культурным достижениям других народов, сделало возможным взаимодействие и взаимообогащение литератур и культур. Знание иностранных языков позволяет читать в подлиннике книги на этих языках, но изучить даже один иностранный язык удается далеко не каждому.
Первыми теоретиками перевода были сами переводчики, стремившиеся обобщить свой собственный опыт, а иногда и опыт своих собратьев по профессии. Понятно, что с изложением своего «переводческого кредо» выступали наиболее выдающиеся переводчики всех времен и, хотя высказываемые ими соображения не отвечали современным требованиям научности и доказательности и не складывались в последовательные теоретические концепции, все же целый ряд таких соображений и сегодня представляет несомненный интерес.
Так, еще переводчики античного мира широко обсуждали вопрос о степени близости перевода к оригиналу. В ранних переводах Библии или других произведений, считавшихся священными или образцовыми, преобладало стремление буквального копирования оригинала, приводившее порой к неясности или даже полной непонятности перевода. Поэтому позднее некоторые переводчики пытались теоретически обосновать право переводчика на большую свободу в отношении оригинала, необходимость воспроизводить не букву, а смысл или даже общее впечатление, «очарование» оригинала. Уже в этих первых высказываниях о целях, которые должен преследовать переводчик, можно найти начало теоретических споров нашего времени о допустимости буквального или вольного перевода, о необходимости сохранить в переводе то же воздействие на читателя, которым обладает оригинал, и т. п.
Позднее отдельные переводчики пытались сформулировать некоторое подобие «нормативной теории перевода», излагая ряд требований, которым должен был отвечать «хороший» перевод или «хороший» переводчик. Французский гуманист, поэт и переводчик Этьен Доле (1509–1546) считал, что переводчик должен соблюдать следующие пять основных принципов перевода:
1. в совершенстве понимать содержание переводимого текста и намерение автора, которого он переводит;
2. в совершенстве владеть языком, с которого переводит, и столь же превосходно знать язык, на который переводит;
3. избегать тенденции переводить слово в слово, ибо это исказило бы содержание оригинала и погубило бы красоту его формы;
4. использовать в переводе общеупотребительные формы речи;
5. правильно выбирая и располагая слова, воспроизводить общее впечатление, производимое оригиналом в соответствующей «тональности».
В 1790 г. в книге англичанина А. Тайтлера «Принципы перевода» основные требования к переводу были сформулированы следующим образом:
1. перевод должен полностью передавать идеи оригинала;
2. стиль и манера изложения перевода должны быть такими же, как в оригинале;
3. перевод должен читаться так же легко, как и оригинальные произведения.
Основы научной теории перевода стали разрабатываться лишь к середине двадцатого века, когда переводческая проблематика привлекла внимание языковедов. До этого времени считалось, что перевод никоим образом не может включаться в круг вопросов, изучаемых лингвистической наукой. Сами переводчики полагали, что лингвистические аспекты перевода играют в «искусстве перевода» весьма незначительную, чисто техническую роль. Конечно, переводчик должен был владеть как языком оригинала, так и языком перевода, но знание языков было лишь предварительным условием перевода и не затрагивало его сущность. Роль такого знания нередко сравнивали с ролью знания нотной записи для композитора.
Со своей стороны, сами языковеды не видели оснований включать переводческую деятельность в объект лингвистического исследования, коль скоро она не определялась лингвистическими факторами. В центре внимания языкознания было изучение специфики языка, раскрытие его уникальной, неповторимой структуры, особенностей грамматического строя и словарного состава каждого отдельного языка, отличающих его от других языков. Все это составляло своеобразие языка, его национальный «дух» и предполагало принципиальную невозможность тождества двух текстов, написанных на разных языках. А поскольку считалось, что перевод должен исчерпывающим образом воспроизводить оригинал, то перевод оказывался принципиально невозможным по чисто лингвистическим причинам, не говоря уже о невозможности воспроизвести неповторимое своеобразие творческой манеры выдающегося поэта или писателя. Отношение языковедов к переводу четко выразил В. Гумбольдт в письме к известному немецкому писателю и переводчику Августу Шлегелю: «Всякий перевод представляется мне безусловно попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счет вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет своего подлинника». Подобные взгляды, получившие позднее название «теория непереводимости», разделялись многими лингвистами, в том числе и теми, которые сами много и весьма успешно выступали в роли переводчиков. «Теория непереводимости» не оказала, разумеется,
К середине двадцатого столетия языковедам пришлось коренным образом изменить свое отношение к переводческой деятельности и приступить к ее систематическому изучению. Мы уже знаем, что в этот период на первый план начал выдвигаться перевод политических, коммерческих,
В рамках переводоведения изучаются психологические, литературоведческие, этнографические и другие стороны переводческой деятельности, а также история переводческой деятельности в той или иной стране или странах. В зависимости от предмета исследования можно выделить психологическое переводоведение (психологию перевода), литературное переводоведение (теорию художественного или литературного перевода), этнографическое переводоведение, историческое переводоведение и т. п. Ведущее место в современном переводоведении принадлежит лингвистическому переводоведению (лингвистике перевода), изучающему перевод как лингвистическое явление.
«Русский журнал: Круг чтения» в 2002 представил читателям серию интересных публикаций — беседы Елены Калашниковой с известными переводчиками, поэтами и прозаиками об искусстве перевода. Некоторые выдержки из этих бесед, озаглавленные соответственно основной идее каждого выбранного отрывка, приводятся ниже.
Буквалистский перевод. По мнению переводчика В. Л. Топорова, «сейчас у продвинутой читающей молодежи установка на плохой перевод, сквозь неуклюжий перевод она хочет увидеть оригинальное авторское решение, домыслить, превратить книгу в интерактивное чтение. Этой аудитории неинтересно получать готовую переводческую версию, сквозь которую не пробиться к автору. Эту задачу плохие переводчики выполняют невольно, а хорошие с ней борются. Может быть, эта борьба немного анахронична...»
Художественный перевод не может быть буквалистским (Н. Ю. Ванханен). Если Топоров имел в виду художественный перевод, то он не может быть буквалистским... В буквалистском переводе нет самого главного — того, ради чего вещь написана, нет по сути авторского замысла. Такие переводы ни для чего не годятся, даже для примитивной информации. Это дезинформация. Кто их читает? Технари в плохом смысле этого слова, гоголевские селифаны, которым интересно, как из букв слова складываются. А зачем автор написал книгу? Мог ведь коротко объяснить: «Роман „Парфюмер“ о нюхаче, который
Пусть скажут мне поклонники буквализма, в чем смысл их буквального перевода, если мой, поэтический, точнее? И я готов это доказать с карандашом в руке. Я понимаю, конечно, многим не нравится читать стихи, прозу
Переводчик запросто может перетащить маргинала в мейнстрим (Д. Б. Волчек). Ты можешь сделать сверхпопулярным персонажа, о существовании которого не подозревают на родине; в советские времена такую штуку проделывали с Джеймсом Олдриджем, который прямо рукописи присылал в Москву. Я переводил Филиппа Ридли, прозу которого в Англии знают человек двести. Когда в России вышла «Крокодилия», потрясенный издатель притащил мне стопку рецензий: «Про нашего зайчика Ридли пишут в газетах, как про толстопузого Умберто Эко».
Некоторые переводы современной зарубежной литературы последних лет знаково неудачные (Д. Б. Волчек). Новые переводы Аполлинера в сборнике «Эстетическая хирургия» — ну зачем, скажите на милость? Это было гениально: «Под мостом Мирабо тихо Сена течет», — первое стихотворение, которое я выучил наизусть, лет шесть мне было. Открываем «Хирургию»: «Мост Мирабо минуют волны Сены» — все, кранты, магия пропала. Дело не в том, что перевод плох — он вроде не хуже прежнего, просто это кощунство. Я так разозлился, что книгу эту выбросил в помойку, — теперь жалею. Питер Акройд, замечательный в переводах В. Бабкова, погиб у Т. Азаркович при переводе романа «Чаттерион». Кошмарен русский Филипп Рот — в «Новой русской книге» подробно разобрали этот никудышный перевод, — там ляп на ляпе, к тому же переводчик произвольно сокращал текст.
Переводить можно только книгу, в которой тебе интересно каждое слово, в автора которой ты слепо влюблен. Если ты воюешь с текстом, видишь в нем длинноты и неточности, которые тебе хочется исправить, ничего путного не выйдет. Правда, я знаю один контрпример, очень занятный. Георгий Зингер, который так чудесно перевел «Торжество похорон» Жана Жене, говорил мне: «Я эту книгу ненавижу, взялся ее переводить, чтобы все знали, как нельзя писать. Переводил на энергии ненависти». Он даже написал в послесловии, что это гнусная литература, а автор — безмозглый Шариков. Так забавно! А перевод, между тем, великолепный. Я ему предложил перевести «Проституцию» П. Гийота, тоже великого маргинала; Зингер прочитал этот роман, и тут же мне позвонил в восторге: «Отвратительная книга, совершенно бессмысленная! Обязательно переведу!»
«Издать книгу стало просто, и люди, которые не только не имеют понятия о форме, октаву от секстины не отличат, да чего там — рифмовать не умеют и с русским языком не в ладах, издают казусы вроде недавно вышедшего тома Элиота в переводе некоего Фарая. Впрочем, в переводе всегда хватало графоманов, хотя в наших семинарах и они
Профессионализм переводчика. На недавней дискуссии известные
Мера точности в поэтическом переводе. Бывает, переводчик просто неправильно понял текст. Может, он не нашел нужной интонации. Может, там, где в оригинале — непривычная метафора, поразительно точная рифма, в переводе оказалось
Бывают ли «гениальные переводчики»? Е. В. Витковский пишет в предисловии «Оправдание перед Богом»: «Сами слова „гениальный переводчик“, видимо, почти бессмысленны, лишь очень немногие исключения — такие, как Валери в переводах Рильке на немецкий или же Осип Мандельштам в переводах Пауля Целана... заставляют заподозрить, что переводчик гениальным
Михаил Лозинский, Михаил Зенкевич, Бенедикт Лившиц — примеры яркого поэтического дарования. К шедеврам искусства перевода по праву относятся: «Иллиада», переложенная на русский Николаем Гнедичем, «Божественная Комедия» в исполнении Михаила Лозинского, драматическая трилогия Йоста ван ден Вондела, которую перевел Евгений Витковский, «Потерянный рай» в переводе Аркадия Штейнберга, «Метаморфозы», переведенные Сергеем Шервинским, «Избранные переводы» Вильгельма Левика.
Французской поэзии в русской культуре повезло на переводчиков и переводческая школа ХХ века тому свидетельство. Начиная от основоположников — Брюсова, Анненского, Сологуба, Гумилева,
Иннокентий Анненский — единственный русский поэт, сумевший дать русскому читателю если и не достоверное, то по крайней мере очень близкое к достоверности представление о Горации.
Об Иннокентии Анненском (А. Любжин). Больше и лучше того, что сделал Анненский, сделать почти невозможно. Для достаточного аргументирования этого вывода нужно было бы доказать неадекватность работы других переводчиков Горация, однако недостатки Порфирова, Филимонова, Орлова, даже Фета — и в первую очередь Фета — настолько очевидны, что на этом здесь можно и остановиться. Выбор стихотворений для перевода и вообще сам факт обращения к одам Горация есть явление сугубо внутреннего, творческого характера: внешние обстоятельства могли быть для поэта только поводом, отнюдь не причиной. При этом Анненский в данном случае образцово переводит совершенно не похожего на него характером дарования поэта. Достаточно оценить переводы Анненского может только человек, знакомый с творчеством Горация в подлиннике. Эту мысль можно сформулировать еще более резко: Анненский переводил для знающих подлинник. Античная поэзия более укоренена в своих жанровых, метрических, образных традициях, чем поэзия, современная Анненскому, и, если он хотел передать впечатление от подлинника, он должен был искать адекватных средств передачи этой укорененности, которая была очевидна как для античного читателя, так и для самого Анненского, безусловно и чувствовавшего, и знавшего за Горациевыми образами своеобразно выраженные «общие места» античной лирики. Для обладающего классическим образованием читателя эта задача переводчика неактуальна. Распространение знаний об античности поможет переложениям Анненского заиграть для читателя новыми гранями. Иннокентий Анненский — единственный русский поэт, сумевший дать русскому читателю если и не достоверное, то по крайней мере очень близкое к достоверности представление о Горации.
Как надо переводить древнего лирика? (А. Любжин). По окончании чисто филологической работы стихотворение должно быть понято в целом, если в нем отразился известный лирический момент (настроение), и в гармонии элементов, если пьеса представляет из себя нечто планомерное. Без этого пьесы не стоит переводить.
Из целостного понимания пьесы определяются те ее детали (слова или выражения, звуковые символы или синтаксические сочетания), от которых особенно зависит красота, колоритность пьесы — для них должны быть подысканы более или менее естественные соответствия из области языка наших чувств (то есть естественной речи).
Выбор размера не должен быть случайным. Против переводов размером подлинника говорили многие и многое. Во всяком случае размер не должен оскорблять нашего уха и ритмического чувства — это главное. Не надо, однако, отчаиваться в том, что между нашими ритмическими волнами и метрами античных поэтов может быть установлено большее соответствие. Слух ведь можно и воспитывать. Звуковая символика и рифма очень ценны в переводах, но они должны быть искусны и интересны.
Достоинством и красотой русской речи, в стихотворном языке особенно, нельзя жертвовать ничему.
Как видим, эти принципы представляют собой некий синтез филологических достижений XX века (не требующего, впрочем, от переводов никакого самостоятельного достоинства) и русской переводческой традиции, сложившейся в XVIII — начале XIX века (подражание, не стесняющееся подлинником и ориентированное только на собственный эстетический результат). Они представляют собой единственно здравый подход к проблеме, но реализовать их значительно труднее, чем сформулировать».
Поэтический перевод (А. П. Прокопьев). Прав Микушевич, когда говорит, что у всякого поэтического шедевра, на каком бы языке он ни был написан, всегда есть и русская версия. Правда, для того, чтобы ее осуществить, нужно непременно сотворить пусть маленькое, но чудо. Мне отчасти понятна позиция тех, кто говорит, что перевод стихов — по большей части обман. Это действительно так, если иметь в виду поток. Даже грамотно выполненного перевода недостаточно. Есть много таких стихов — с версификационной стороны безупречных, но изначально мертворожденных. Многие научились штамповать переводы, писать по раз найденному шаблону. И все эта рифмованная дребедень выдается за стихи. Однако полнейшая нелепость делать отсюда вывод, что теперь все нужно переводить прозой, как практикуют на Западе. Иногда это полезно. Как в случае с античной поэзией в переводах глубоко мной уважаемого Михаила Леоновича. Но когда он таким же способом переводит Георга Гейма, задача остается нерешенной. Точности даже в передаче простого смысла сказанного добиться не удается, а ведь ради точности такой перевод вроде бы и применяется. Примеров могу привести уйму, но здесь не место. Я сознательно отозвал свои переводы из Приложения к Гейму, выходящему сейчас в «Литературных Памятниках», с одной только целью — чтобы у меня оставалось моральное право критически высказываться на сей счет. Надеюсь, Михаил Леонович все правильно понял и не обижается на меня. Но,
Для меня перевод поэзии — это возможность обогатить, так сказать, палитру, прежде всего музыкальную, но также и обратиться к форме и к лексике, к которым вряд ли бы прибег в собственном творчестве. Перевод требует умения читать, вслушиваться в другого, дара перевоплощения. Переводчик поэзии должен быть артистом, исполнителем. Но также и поэтом. Почти все выдающиеся русские переводчики были поэтами (Я. Э. Пробштейн).
Соотношение собственного поэтического дарования переводчика и дарования автора (А. П. Прокопьев). Переводчик поэзии, не обладающий сильным поэтическим дарованием, — нонсенс. Переводчик — не копиист, какие существуют в живописном искусстве. Перевод в идеале — это будущее поэзии, а не ее прошлое. Именно переводчик находится в авангарде современной поэзии. ...Перспектива перевода с восточных языков лежит
Отличие перевода поэзии от перевода прозы, если оно есть? (Б. В. Дубин). Главное отличие в том, что у поэзии поэтический язык, а не испанский или французский: он живет общим строем, который и есть смысл, и он важней, чем отдельное слово, даже самое яркое. Именно поэтому такие замечательные умения, как, например, характерные наречия и др., значимы только на ее краях, когда поэзия становится балладной, как у Киплинга, или игровой, как у Леона де Грейффа. В таких случаях переводчик тоже подходит к языку как к готовому, только идет не от первых значений, а от шестых. В любом случае, здесь есть более или менее твердый критерий, по которому переводчик, редактор или литературный авторитет может сказать: «Все, есть, ты нашел!..»
Для такого типа перевода — я бы назвал его
В то время городская жизнь только устанавливалась, на окраине это особенно чувствовалось. Вероятно, внутренне, в наиболее глубоких пластах опыта, я остался человеком с окраины. Трудно сказать, где кончаются твои слабости и начинаются принципы, но со временем я стал полубессознательно искать не установившиеся, промежуточные формы — осколки, афоризмы, фрагменты записной книжки, прозу поэтов, их эссе о живописи. Мне интересно, как поэты пишут о живописи или о музыке, о том, что нельзя определить словом. Мне вообще ближе понимание литературы и поэзии как
Провалы в истории русского художественного перевода. Возможно ли, что
Перевод — профессия (И. И. Кузнецова). В издательствах, которые создаются сплошь и рядом людьми, с трудом умеющими читать, редакторы, особенно если они не знают ни одного языка, кроме русского, очень часто не понимают, что от перевода во многих случаях зависит судьба книги. Читая перевод, они могут сказать (и говорят): «Черт побери,
Перевод — искусство потерь (М. Д. Яснов). ...Известная формула: «перевод — искусство потерь». На мой взгляд, каждый переводчик
О том же самом искусстве потерь. Козовой, например, мог не соблюдать некоторые формальные особенности оригинала, уходил от них. Он и переводил в основном свободные стихи, версеты, вещи без жесткого каркаса — поэтому у него была большая свобода выбора средств, которыми он возмещал, скажем, потерю определенной ритмики оригинала. При переводе классического, рифмованного, ритмизованного стихотворения возникают иные проблемы, подстерегают иные ловушки... Замечательно, когда есть вехи, по которым можно судить о переводе и понимать, что это хороший перевод. Но это совсем не различия в школах.
Национальный поэтический контекст (И. С. Смирнов). Как бы ни изощрялся переводчик, нельзя обойти одно из главных свойств иноязычной поэзии — постоянную вписанность в национальный поэтический контекст, особенно когда вся поэзия, как китайская, на этом построена, и когда этот «китайский» контекст совершенно незнаком — а во многом и чужд — читателю, воспитанному на европейской культуре. Никакого мастерства не хватит для того, чтобы это преодолеть. Даже самый удачный перевод отдельно взятого стихотворения ущербен — тем более что для китайца отдельное стихотворение, за редким исключением, не есть значимая поэтическая единица, для него важнее поэтический цикл, антология, то есть некоторая поэтическая протяженность.
А антология — это определенный поэтический пейзаж. Как в природном пейзаже бывают красивые и некрасивые фрагменты, так же для китайца в поэтическом ландшафте, наряду с достижениями, должны быть стихи, не вполне соответствующие вершинному уровню, но создающие общую картину, — если их изъять, картина будет ущербной. Поэтому составление антологий — сложная работа, в которой значимо как включение, так и
В советское время
Вообще обилие переводчиков с китайского — это
Скажем, поздняя по китайским меркам проза
Вообще у каждого китаиста своя узкая «делянка». Я научился читать стихи определенного периода. Шаг в сторону — начал переводить предисловия — и совершенно другой язык. У предисловий к стихам особый тип языка. Поэтому так трудны консультации между
Библиография
Брандес М. П. Стиль и перевод. М., 1988.
Гоциридзе Д.3., Хухуни Г. Х. Очерки по истории западноевропейского и русского перевода. Тбилиси, 1986.
Добровольский Д. О.
Калашникова Е. Наталья Ванханен. «Единственное влияние перевода — плохое»//Русский Журнал: Круг чтения. 2002.
Калашникова Е. Михаил Яснов: «Перевод — искусство потерь»//Русский Журнал: Круг чтения. 2002.
Калашникова Е. Ян Пробштейн: «Соблазны перевода»//Русский Журнал: Круг чтения. 2002.
Квливидзе М. Стихотворения. М., 1982.
Левин Ю. Д. Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода. Л., 1985.
Левин Ю. Д. Шекспир и русская литература XIX века. Л., 1988.
Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Почему нужны грамматические трансформации при переводе?/Тетради переводчика. М., 1971. Вып.8.
Нишнианидзе Ш. Избранное. Тбилиси, 1982.
Паршин А. Теория и практика перевода. М., 2002.
Табидзе Г. Лирика. Тбилиси, 1982.
Чуковский К. И. Высокое искусство. М., 1968.
Эткинд Е. Г. Поэзия и перевод. М.; Л., 1963.
Тема № 195
Эфир 05.01.2003
Хронометраж 47:16