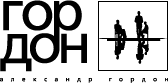gordon0030@yandex.ru
Три кризиса Розанова
 30.10.2003
30.10.2003  40:08
40:08
 Стенограмма эфира
Стенограмма эфираВ чем состоит парадоксальность личности Розанова? Почему начинать читать Розанова можно с любого места? А с какого места можно начинать изучать этого «мага слова», творческое наследие которого насчитывает более пятидесяти томов? О трех переломных момента в его биографии, трех кризисах, способных помочь приблизиться к пониманию этой уникальной личности, — историк Виктор Сукач.
Участник:
Сукач Виктор Григорьевич — историк, старший научный сотрудник Института Мировой Литературы (ИМЛИ)
Материалы к программе:
Три кризиса Розанова:
1) Студенческий период и период борьбы с позитивизмом. В 1882 окончил
2) С 1898 г. начинается самый длительный творческий период. В 1899 стал сотрудником газеты «Новое время». Примыкал к поздним славянофилам, после 1905 — представитель богоискательства. В этот период Розанов встречает В. Д. Бутягину, но церковь их не венчает, и дети от такого сожительства считаются незаконнорожденными. Это период критики церкви Розановым, по гениальному определению Розанова «исторической церкви», критики переходящей в противоборство с христианством в целом. Это период «светопреставления», когда Розанова озарило, и он нашел свой стиль и начал писать легко и свободно. Основная тема этого периода — брак и христианство.
3) Третий кризис — предсмертный период (2–3 недели) явлений, видений Розанова. С 1917 жил в Сергиевом Посаде.
Из энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона 1899 г:
Розанов Василий Васильевич — современный философ, публицист и критик, родился в Ветлуге в 1856 году, окончил курс в московском университете по филологическому факультету, был учителем истории и географии в брянской прогимназии, Елецкой гимназии и Бельской прогимназии; с 1893 года служит в центральном управлении государственного контроля. Неудовлетворенный схемой университетских дисциплин, лишенных цельности и последовательности, Р., в обширном труде: «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как цельного знания» (Москва, 1886), дает план возможного понимания или познания мира, определенный изучением первоначального строения ума, которому соответствует строение мира. Все познаваемое распределено в понимании, содержится в его формах, но только еще закрытое, непознанное; понимание завершает деятельность разума и дает ему успокоение. Всестороннюю критику утилитаризма Р. дал в статье: «Цель человеческой жизни» («Вопросы философии», 1892, кн. 14 и 15); эстетические воззрения Р. изложены в книге «Красота в природе и ее смысл» (Москва, 1894), написанной по поводу взглядов Вл. С. Соловьева. Гораздо больше внимания Р. посвятил философии истории, в связи с запросами и требованиями современности. («Религия и культура», сборник статей,
Идеи Розанова:
Развивал идеи о понимании как отличной от эмпирического познания деятельности разума. Природа человека иррациональна и доступна только религии. Индивидуальное бытие самоценно и происходит из «утробы универса». Разделял концепцию соборности, общинности русской жизни. Пол понимал как мистическую связь человека с Богом. Одним из первых выдвинул тезис «о достоинстве христианства и недостоинстве христиан», развитый затем Н. А. Бердяевым. «В книгах и статьях Розанова уделяется большое внимание критике христианства. Он рассматривает светлое христианство старца Зосимы и Алеши Карамазова как вымысел Достоевского, по его мнению, есть печальная религия смерти, проповедущая безбрачие, пост и аскетизм» (Лосский Н. О. История русской философии М. 1991). Главные сочинения: 1) Около церковных стен: В 2 т. СПб., 1906; 2) Тёмный лик. Метафизика христианства. СПб., 1911; 3) Люди лунного света. Метафизика христианства. Спб., 1913; 4) Апокалипсис нашего времени.Вып.1–10. Сергиев Посад, 1917–1918; 5) Уединенное. Почти на правах рукописи. Пб., 1912;
Учение Розанова:
Что делать? «„Что делать?“ — спросил нетерпеливый петербургский юноша. — Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай». (Розанов В. В. Эмбрионы//Русская философия.
Гений. «Гений обычно бездетен — и в этом его глубокая и, может быть, самая объясняющая черта. Он не может рождать, и, кто знает, нужно ли это для него? Он есть некоторая ding an sich. Как орудие, как низменное средство, как земная сторона небесной тайны — половые аномалии, так часто встречающиеся у гениев; влечение к разврату; раннее половое развитие; „пороки детства“. Лермонтов и Байрон 11–14 лет испытывают любовь; как это уродливо, как гениальны они. Рафаэль и Александр Македонский равно бездетны; бездетны Цезарь и Ньютон. Потомство гения, если даже оно есть, — чахло и быстро гибнет; большею частью это — женское потомство. Вспомним Наполеона I и нашего Петра. Здесь лежит объяснение, почему после гениальных государей династии, большею частью, пресекаются и начинаются „смуты“». (Там же. С. 167.)
Эмбрионы. «Весь мир есть игра потенций, я хочу сказать — игра некоторых эмбрионов, духовных или физических, живых или мертвых. Треугольник есть половина квадрата, известным образом расчерченного, и на этом основаны его свойства, измеримость, отношения к разным фигурам; Земля есть „Сатурново кольцо“, оторвавшееся от Солнца, разорвавшееся, склубившееся, и поэтому она тяготеет к Солнцу; и всякая вещь есть часть бесчисленных других вещей, их эмбрион, потенция их образования — и поэтому только он входит в соотношение с этими другими вещами, связывается с ними, а от других, наоборот, отталкивается. Поэтому, говорю я, жизнь природы есть жизнь эмбрионов; ее законы суть законы эмбриональности; и вся наука, т. е. все и всякие науки, суть только ветви некоторой космической эмбриологии». (Там же. С. 168.)
Народ, его формы. «Когда народ умирает — он оставляет одни формы: это — скелет его духа, его творчества, его движений, внутренних и внешних. Республика, монархия — разве это не формы? Трагедия, эпос, „шестистопный ямб“ — разве не формы? Не формы — Парфенон, как и Девятая симфония? И, наконец, метафизика Платона или Гегеля? И вот почему, еще раз: когда народ оканчивает свое существование — формальная сторона всех им создаваемых вещей приближается к своему завершению». (Там же. С. 167.)
Чувство Бога. «Чувство Бога есть самое трансцендентное в человеке, наиболее от него далекое, труднее всего досягаемое: только самые богатые, мощные души, и лишь через испытания, горести, страдания, и более всего через грех, часто под старость только лет, досягают этих высот, — чуточку и лишь краем своего развития, одною веточкой, касаются „мирам иным“; прочие лишь посредственно — при условии чистоты душевной — досягают второй зоны: это — церковь. Коснувшиеся „мирам иным“, отцы мира христианского — оставили слова об этом касании; они сложились в обряд, ритуал, требования; выросли как обычай, как учреждения; окреп канон, создалась литургия; построен храм. Создалась масса материальной святыни, уловимой формами времени и пространства. И здесь почил Свет Божий, как праведник почивает в своих мощах. Касание сюда уже для всякого доступно; это — средство спасения, всем предложенное. Да не касаются же руки человеческие этой высочайшей святыни всего человечества.
Тайна православия. «Вся тайна православия — в молитве, и тайна быть православным заключается в умении молиться. Признаемся, мы чувствуем отвращение всякий раз, когда заводится речь о цезаропаризме или папоцезаризме. Когда стоишь в храме и видишь молящихся — как применить сюда эти понятия: что они — цезоропаписты или папоцезаристы? Все это темы для нас интересные, и именно интересные настолько, насколько мы разучились молиться». (Там же. С. 171.)
Искусство и действительность. «Нет более обманывающей фигуры, чем „Моисей“
Критика Розанова и его учения:
Из статьи Н. А. Бердяева «Христос и мир»: (В. Розанов один из величайших русских прозаических писателей, настоящий маг слова.) [В. В. Розанов] пугает христиан, как старых, так и новых. Затрудняются отразить его удары, считают самым опасным противником Христа, как будто у Христа могут быть опасные противники, как будто делу Христову могут быть нанесены неотразимые удары. А Розанов враг не христианства только, не «исторического» христианства, а прежде всего самого Христа. Христианство не так для него отвратительно, все же христианство было компромиссом с «миром», в христианство проникло начало домостроительства, в стихии христианства образовался семейственный быт, христианство создало
Тема Розанова... — Христос и мир, отношение между Христом и миром. Тема эта с необычайным талантом и блеском развита Розановым в статье «Об Иисусе Сладчайшем и о горьких плодах мира», и статью эту я, главным образом, буду иметь в виду в настоящей (статье) [ответе]. У Бога есть дитя — Христос и дитя — мир. Розанов видит непримиримую вражду этих двух детей Божьих. Для кого сладок Иисус, для того мир делается горек. В Христе мир прогорк. Те, что полюбили Иисуса, потеряли вкус к миру, все плоды мира стали горькими от сладости Иисуса. Все это написано удивительно красиво, ярко, смело и по первому впечатлению опасно. Нужно выбирать между Иисусом и миром, между двумя детьми Божьими... По чудесному выражению Розанова, Христос —
Розановская постановка вопроса производит очень сильное впечатление, все возражения со стороны апологетов христианства представляются жалкими и слабыми. Розанов говорит конкретно и на первый взгляд ясно, дает почувствовать всю остроту вопроса, он ошеломляет и гипнотизирует. Он грубоват, когда тащит монаха в «театр», но монах действительно представляется беспомощным. Лепет официальных защитников Церкви не убедителен, у всех остается впечатление, что Розанов показал, наглядно показал абсолютную противоположность между Христом и миром, абсолютную несоединимость сладости Христа со сладостью мира. Для Розанова Христос есть дух небытия, дух умаления всего в мире, а христианство — религия смерти, апология сладости смерти. Религия рождения и жизни должна объявить непримиримую войну Иисусу Сладчайшему, отравителю жизни, духу небытия, основателю религии смерти. Христос загипнотизировал человечество, внушил нелюбовь к бытию, любовь к небытию... Розанов — гениальный обыватель, и вопрос его в конце концов есть обывательский, мещанский, обыденный вопрос, но формулированный с блестящим талантом. Тем и поражает Розанов, что он говорит нечто близкое обывательскому сердцу, что вопрос о сладких и горьких плодах мира задевает мещанина этого мира, смущает официальное христианство, давно уже превратившееся в мещанство. Розановская семья, варенье, театры, сладости и радости благополучной жизни понятны и близки всему обывательскому царству, которое в этом и видит сущность «мира» и «мир» этот хотело бы спасти от гипноза Иисуса Сладчайшего. Для Розанова бытие есть быт, «мир» есть сладость бытовой жизни. Это очень глубоко, это — сила.
...Розанов бытовой человек, у него есть напряженное чувство быта и очень слабое чувство личности... Потому Розанов и не сознает трагизма смерти, трагизма личной судьбы, ужаса индивидуальной гибели. У Розанова есть
...Я даже осмеливаюсь думать, что между миром и семьей, во имя которой прежде всего Розанов восстал на Христа, существует [глубокая неистребимая] противоположность... [Между миром и семьей существует гораздо больший антагонизм, чем между миром и Христом. Достаточно уже доказано и показано, что ничто так не мешает вселенскому ощущению мировой жизни и мировых задач истории, как крепость родовой семьи. И не только между семьей и миром существует противоположность, противоположность существует между семьей и любовью, в семье слишком часто хоронится любовь.]
Всякий закрепленный, замкнутый быт противен творчеству, в вековом находится антагонизме со вселенной и вселенским. А Розанов хочет нам выдать семью и быт за вселенную, за великий мир Божий. Враждебность родового быта и родовой семьи вселенским творческим порывам не требует особых доказательств, это факт почти очевидный.
...Вопрос о происхождении и сущности зла для Розанова неразрешим и даже непонятен. Пантеизм всегда однобок, не ощущает мирового трагизма, в нем заключена лишь часть истины. Если мир так хорош и божествен, если в нем самом есть имманентное оправдание, если не нужен никакой трансцендентный исход из мировой истории, то непостижимо, откуда явилось зло этого мира и ужас здешней жизни. Для Розанова зло есть
...Хваленый «мир» Розанова есть кладбище, в нем все отравлено трупным ядом. На кладбище хочет Розанов вырастить цветы божественной жизни и утешиться плодородием разлагающихся трупов. Розанов обоготворяет биологический факт рождения, но мистическая загадка жизни не вмещается в биологическом рождении во времени, она связана с тайной смерти.
...Я задам Розанову один вопрос, от которого все зависит. Воскрес ли Христос, и что станется с его дилеммой, — мир или Христос, — если Христос воскрес? Поверив в реальность воскресения, будет ли он настаивать на том, что религия Христа есть религия смерти?
Из статьи Н. А. Бердяева «О „вечно бабьем“ в русской душе»:
...Розанов сейчас — первый русский стилист, писатель с настоящими проблесками гениальности. Есть у Розанова особенная, таинственная жизнь слов, магия словосочетаний, притягивающая чувственность слов. У него нет слов отвлеченных, мертвых, книжных. Все слова — живые, биологические, полнокровные. Чтение Розанова — чувственное наслаждение. Трудно передать своими словами мысли Розанова. Да у него и нет никаких мыслей. Всё заключено в органической жизни слов и от них не может быть оторвано. Слова у него не символы мысли, а плоть и кровь. Розанов — необыкновенный художник слова, но в том, что он пишет, нет аполлонического претворения и оформления. В ослепительной жизни слов он дает сырье своей души, без всякого выбора, без всякой обработки. И делает он это с даром единственным и неповторимым. Он презирает всякие «идеи», всякий логос, всякую активность и сопротивляемость духа в отношении к душевному и жизненному процессу. Писательство для него есть биологическое отправление его организма. И он никогда не сопротивляется никаким своим биологическим процессам, он их непосредственно заносит на бумагу, переводит на бумагу жизненный ноток. Это делает Розанова совершенно исключительным, небывалым явлением, к которому трудно подойти с обычными критериями. Гениальная физиология розановских писаний поражает своей безыдейностью, беспринципностью, равнодушием к добру и злу, неверностью, полным отсутствием нравственного характера и духовного упора. Все, что писал Розанов, писатель богатого дара и большого жизненного значения, есть огромный биологический поток, к которому невозможно приставать с
Розанов — это
...Розанова любят потому, что так устали от отвлеченности, книжности, оторванности. В его книгах как бы чувствуют больше жизни. И готовы простить Розанову его чудовищный цинизм, его писательскую низость, его неправду и предательство. Православные христиане, самые нетерпимые и отлучающие, простили Розанову все, забыли, что он много лет хулил Христа, кощунствовал и внушал отвращение к христианской святыне, Розанов
... В самых недрах русского характера обнаруживается
О. Павел Флоренский: Василий Васильевич есть такой шарик, который можете придавливать — он выскользнет, но который не войдет в состав целого мира: он сам по себе, per se est, или по крайней мере, potatat se per se esse (мог бы быть сам по себе). Это стихия хаоса, мятущаяся,
А. Ф. Лосев. Из бесед и воспоминаний. <...> Если бы я не был так стар, и не было бы у меня столько обязанностей по античности, то Розанов — это один из тех писателей, которыми я действительно мог бы заняться, навалять книжонку, чтобы обрисовать его не в том тривиальном виде, как это нередко делается, а
Розанов — человек, который все понимает и ни во что не верит. Мне рассказывали: однажды был крестный ход в память преподобного Сергия или
Из статьи Б. Парамонова «Американец Розанов»: Непрерывный ток розановского «либидо», исходивший от него на все без исключения предметы — вплоть до неодушевленных, — делал Розанова писателем абсолютно «беспринципным». В русской высокоидейной журналистике начала века это было смертным грехом. <...> В другой раз выяснилось, что Розанов, публикуясь под своим именем в консервативной газете, под псевдонимом печатается в либеральной. Скандал вышел страшный, Розанова предлагали отлучить от литературы (не забудем, что в России литература, даже самая сомнительная журналистика, издавна считалась
«Явно, что когда лично и персонально все партии сольются «в одной душе» — не для чего им и быть как партиям, в противолежании и в споре. Партии исчезнут. А когда исчезнет их сумма — исчезнет и политика, как спор, вражда (...)
Вот и поклонитесь все Розанову за то, что он, так сказать, «расквасив» яйца разных курочек, — гусиное, утиное, воробьиное — кадетское, черносотенное, революционное, — выпустил их «на одну сковородку», чтобы нельзя было больше разобрать „правого“ и „левого“, „черного“ и „белого“ — на том фоне, который по существу своему ложен и противен... И сделал это с восклицанием:
— Со мною Бог.
Никому бы это не удалось. Или удалось бы притворно и неудачно; „удача“ моя заключается в том, что я в самом деле не умею здесь различать „черного“ и „белого“ (...)»
Это розановский вариант плюрализма, когда многообразие мнений не разверстано по головам («ум хорошо, два лучше»), а сосредоточивается в одной голове. Розанов — это как бы русский парламент, состоящий из единственного, но весьма разностороннего и говорливого депутата. А однажды Розанов написал статью, сравнивающую английский парламент с русской баней, — и отдал полное предпочтение последней. Бердяев говорил, что Розанов переживает физиологию как мистику, что чтение Розанова противопоказано всякому закалу души, что Розанов — это папаша Карамазов, сделавшийся литератором...
Из «Розановские сентенции из записной книжки 1969–70 годов» В. Ерофеева:
Розанов: Девушки! Вы посланы в мир животом, а не головою.
Розанов: Изобретение книгопечатания сделало любовь невозможной.
Розанов: Я не хочу истины. Я хочу покоя.
Опять Розанов о хр[истианст]ве и поле: Есть
Розанов: Подняв новорожденного на руки, молодая мать может сказать: Вот мой пророческий глагол.
Розанов: Женщина без детей грешница. Это канон Розанова для всей России.
Розанов: Грусть моя вечная гостья. Она приходит вечером, в сумерки... Я думаю, она к человеку подошла в тот вечерний час, когда Адам вкусил и был изгнан из рая.
Розанов: Мы хорошо знаем только себя. О всем прочем только догадываемся. Осложнить вдохновение хитростью вот Византия.
Розанов: Нужно, чтобы о
Розанов: Будем целовать друг друга, пока текут дни. Слишком быстротечны они, будем целовать друг друга.
Розанов: Боль мира победила радость мира вот христианство.
Розанов: perfectum кабак, praesens кабак, futurum кабак.
Розанов: Будь верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять.
О себе. Мое отношение к миру — нежность и грусть. А в печати окончат[ельно] утвердилась мысль, что я Передонов или Смердяков. Merci. Не понимаю, почему меня так ненавидят в лит[ерату]ре. Сам себе я кажусь очень милым человеком.
О христианстве. Необыкновенная сила церкви зависит (м[ежду] прочим) от того, что прибегают к ней люди в самые лучшие моменты своей души и жизни: страшные, патетически страдальческие, горестные. Тут человек совсем другой, чем всю жизнь, и лучший. Как же этому месту, куда всё снесено, не сделаться было наилучшим и наимогущественнейшим.
О Христе и евреях. Есть
О революции. Революция имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет [?] глубины. В революции нет [нрзб] И не будет. [нрзб] царственное чувство.
Еще о евреях. Почти не встречается еврей, кот[орый] не обладал бы
О Гоголе. Никогда более страшного человека, подобия человеческого... не приходило в нашу землю.
О Суворине. В глазах, в движениях головы то доброе и ласковое, то талантливое, что и видел в нем [нрзб] лет. В нем были вероятно недостатки: но в нем не было неталантливости ни в чем, даже в повороте шеи.
О Толстом. Когда наша простая Русь полюбила его простою и светлою любовью за Войну и мир, он сказал: Мало. Хочу быть Буддой и Шопенгауэром. Но вместо Будды и Шопенгауэра получилось только 42 карточки, где он снят en face, в профиль, и [нрзб], сидя, стоя, лежа, в рубахе, кафтане и еще в
О христианстве. Дальнейший отказ хр[истианст]ва от пола будет иметь последствием увеличение триумфов еврейства. Вот, отчего так [нрзб] время я начал проповедывать[нрзб] хр[истианст]во должно хотя бы отчасти стать фаллическим.
О Гоголе. Памятники не удаются у русских (Гоголю и т. д.), потому что единственный нормальный памятник — часовня, и в ней неугасимая лампада по рабе Божием Николае.
О своем творчестве. Какого влияния я хочу? Чтобы моё влияние было в расширении души человеческой, чтобы душа была нежнее, чтобы у нее было больше ухо, больше ноздри. И больше в сущности ничего не хочу. [3 строчки нрзб] человеку, как не [нрзб] в поле.
De ratione. Конечно, я ценил ум, без него скучно, с умом интересно, это само собою. Но
О попах. Попы медное войско около Христа. От ЕГО слез и страданий ни капли в НИХ. Отроду я не видал ни одного заплакавшего попа. Всё некогда, всё должность и служба. И между прочим, ни в ком я не видал такого равнодушного отношения к смерти, как у попов. Эта метафизика нам нипочем.
Из книги В. Зеньковского «История русской философии»: Характеристика идейного содержания творчества Розанова до крайности затрудняется тем, что он был типичным журналистом. Хотя у него было достаточно цельное мировоззрение, хотя в его многообразном творчестве есть определенное единство, но самая манера письма Розанова очень затрудняет раскрытие этого внутреннего единства... Розанов... ради правды мира отвергает христианство за его «неспособность», как он думает, принять в себя эту правду мира. Леонтьев и Розанов — антиподы в этом пункте, но и страшно близки в нем друг к другу. Любопытно, что того и другого нередко характеризовали, как «русского Ницше», — и действительно у обоих есть черты, сближающие их (хотя в разных моментах) с Ницше...
Розанов имел громадное влияние на Д. С. Мережковского (в его
...Духовная эволюция Розанова была очень сложна. Начав со своеобразного рационализма (с отзвуками трансцендентализма), легшего в основание его первого философского труда «О понимании», Розанов довольно скоро стал отходить от него, хотя отдельные следы былого рационализма оставались у него до конца дней. Но с самого начала (то есть уже в книге «О понимании») Розанов проявил себя как религиозный мыслитель. Таким он оставался и всю жизнь, и вся его духовная эволюция совершалась, так сказать, внутри его религиозного сознания. В первой фазе Розанов всецело принадлежал Православию, — в свете его оценивал темы культуры вообще, в частности проблему Запада. Наиболее ярким памятником этого периода является книга его, посвященная «Легенде о Великом Инквизиторе», а также его статьи в сборниках: «В мире неясного и нерешенного», «Религия и культура» и т. д. Однако, уже и в это время у Розанова попадаются мысли, говорящие о сомнениях, которые вспыхивают в его душе. С одной стороны, Розанов резко противопоставляет христианский Запад Востоку: западное христианство ему представляется «далеким от мира», «антимиром». В Православии «все светлее и радостнее», — поэтому дух Церкви «на Западе еще библейский, на Востоке — уже евангельский». В свете Православия христианство представляется Розанову, как «полная веселость, удивительная легкость духа — никакого уныния, ничего тяжелого», — и несколько дальше тут же он пишет: «нельзя достаточно настаивать на том, что христианство есть радость — и только радость и всегда радость». Но в эти же годы он пишет замечательную статью «Номинализм в христианстве», где он остро говорит о всем христианстве, что оно «превратилось в доктрину», — что «номинализм», риторика — не случайное явление в христианстве, что «это именно и есть христианство, как оно выразилось в истории». Тут же читаем: «христианство прямо еще не начато, его нет вовсе, и мы поклоняемся ему, как легенде». «Вся мука, вся задача на земле религии — стать реальной, осуществиться», — читаем здесь, — и в этих словах, в этой защите христианского реализма заключается как раз движущая сила в диалектике религиозных исканий Розанова.
...На пороге второго периода в его творчестве — Розанов уже объят сомнениями относительно «исторического» христианства, которое он противопоставляет подлинному и истинному христианству... Так или иначе, Розанов начинает скептически относиться к «историческому» христианству, — и вот какие новые богословские идеи приходят ему в голову. «Религии Голгофы» он впервые здесь противопоставляет «религию Вифлеема», которая заключает в себе «христианство же, но выраженное столь
Здесь мы уже совсем вступаем во второй период в творчестве Розанова, в котором Голгофа противопоставляется Вифлеему. Розанов становится критиком «исторического» христианства во имя «Вифлеема», и проблема семьи ставится в центре его богословских и философских размышлений. Он еще не отходит от Церкви, он вое еще «около церковных стен» (как назвал он двухтомный сборник своих статей), но в «споре» христианства и культуры у него постепенно христианство тускнеет, теряет
...Критика Церкви перешла в борьбу с Церковью, когда размышления Розанова сосредоточились на проблеме семьи... Чтобы понять эту внутреннюю диалектику в Розанове и оценить всю значительность его идей, необходимо углубиться в изучение того, что мыслил Розанов о человеке. В его антропологии ключ ко всей его идейной и духовной эволюции.
...Исходная интуиция Розанова в его исканиях и построениях в области антропологии есть вера в «естество» человека и нежная любовь к нему. Розанов вообще любил «естество», природу... «Природа — друг, но не съедобное», — с сарказмом говорит Розанов. — <...> «есть действительно некоторое тайное основание принять весь мир, универс за
Из всего этого «чувства природы», очень глубокого у Розанова, питались разные его размышления. «...Всякая метафизика есть углубление познания природы». Это есть космоцентризм...
Вся антропология Розанова... ориентирована космоцентрически...У него исключительно велико чувство личности (в человеке), но это чувство у него окрашено космоцентрически. Вся метафизика человека сосредоточена для Розанова в тайне пола, — но это абсолютно далеко от пансексуализма Фрейда, ибо все в тайне пола очеловечено у Розанова. Мы еще будем иметь случай коснуться замечательной его формулы: «то, что человек потерял в мироздании, {то} он находит в истории». Для нас сейчас существенно в этой формуле указание на то, что человек «теряет» в мироздании, — но он не теряется в нем, — он «включен» в порядок природы, и точка этой включенности и есть пол, как тайна рождения новой жизни. Именно эта «творящая» функция пола нужна и дорога Розанову; ведь пол, по Розанову, «и есть наша душа». Оттого Розанов даже утверждает, что человек вообще есть «трансформация пола», — но это совсем не есть
Понимая пол, как ту сферу в человеке, где он таинственно связан со всей природой, то есть понимая его метафизически, Розанов считает все «остальное» в человеке, как выражение и развитие тайны пола. «Пол выходит из границ естества, он — внеестественен и сверхестественен». Если вообще «лишь там, где есть пол, возникает лицо, то в своей глубине пол есть „второе, темное, ноуменальное лицо в человеке“: „здесь пропасть, уходящая в антипод бытия, здесь образ того света“. „Пол в человеке подобен зачарованному лесу, то есть лесу, обставленному чарами; человек бежит от него в ужасе, зачарованный лес остается тайной“.
...„Пол не функция и не орган“, — говорит... Розанов против поверхностного эмпиризма в учении о поле; отношение же к полу, как органу, „есть разрушение человека“. В этих глубоких словах ясно выступает вся человечность этой метафизики; никто не чувствовал так глубоко „священное“ в человеке, как Розанов, именно потому, что он чувствовал священную тайну пола. Его книги напоены любовью к „младенцу“ (особенно замечательно все, что он писал о „незаконорожденных“ детях), — и не случайно то, что последний источник „порчи“ современной цивилизации Розанов видит в том разложении семьи, которое подтачивает эту цивилизацию.
Углубление в проблемы пола у Розанова входит, как в общую рамку, в систему персонализма, — в этом вся значительность его размышлений. Метафизика человека освещена, у него из признания метафизической центральности сферы пола. „Пол не есть вовсе тело, — писал Розанов однажды, — тело клубится около него и из него“... В этой и иных близких формулах Розанов неизмеримо глубже всего того „тайновидения плоти“, которое Мережковский восхвалял в Толстом: никто глубже Розанова не чувствует „тайны“ пола, его связи с трансцендентной сферой („связь пола с Богом большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом“).
Вдумываясь в то, как складывается судьба семьи в развитии христианской истории, Розанов сначала был склонен, обвинять Церковь, вообще „историческое христианство“ в одностороннем уклоне в сторону аскетического „гнушения“ миром. Но постепенно его взгляд меняется, — он уже начинает переносить свои сомнения на самую сущность христианства. „Христианство давно перестало быть бродилом, дрожжами“, оно „установилось“. Оттого „вокруг нас зрелище обледенелой в сущности христианской цивилизации..., где все номинально“. Источник этого, по новому сознанию Розанова, в том, что „из текста Евангелия естественно вытекает только монастырь“. „У Церкви нет чувства детей“, — в другом месте утверждает Розанов. Высшей точки эти сомнения его достигли в его нашумевшей статье об „Иисусе Сладчайшем“ (в сборнике „Темный лик христианства“). Здесь Розанов утверждает, что „во Христе мир прогорк“. У Розанова начался период христоборчества, решительного поворота к Ветхому Завету (религии Отца). Теперь оказывается, что он „от роду не любил читать Евангелия, — а Ветхим Заветом не мог насытиться“, что „иночество составляет метафизику христианства“. Христианство он теперь называет „христотеизмом“, в котором только одна треть правды теизма». Особенной силы и острой выразительности христоборчество Розанова достигает в его предсмертном произведении «Апокалипсис нашего времени». Это — очень жуткая вещь с очень острыми, страшными формулами. «Христос невыносимо отягчил человеческую жизнь», Христос — «таинственная Тень, наведшая отощание на все злаки»; христианство «бессильно устроить жизнь человеческую» со своей «узенькой правдой Евангелия». Есть здесь и такие слова: «зло пришествия Христа...».
Христианство — «истинно, но не мочно», — написал однажды Розанов, — и историческое «бессилие» Церкви, тот факт, что она не овладела историческим процессом, не смогла внести в него свой свет, чтобы во всем преобразить его, — все это для Розанова есть «грех» Церкви. И тут перед нами выступает никогда до конца не выявленная его историософская концепция. Мы уже приводили очень глубокую его мысль, что «все, что потерял человек в мироздании, он находит в истории». Однако, это совсем не возвеличивает человека, как делателя истории: царственное значение, утерянное человеком в космосе, но вновь обретенное в истории, совсем не создается человеком. «Человек не делает историю, — читаем в той же книге, откуда взята только что приведенная цитата: — он в ней живет, блуждает, без всякого ведения, для чего, к чему». Это больше, чем агностицизм, — это уже историософский мистицизм, часто близкий к историософскому алогизму Герцена или имперсонализму в истории философии у Л. Толстого. В той же книге в одном месте Розанов говорит о «неверных волнах истории», движение которых разбивается о монастырь, — но в личном сознании человека власть истории гораздо больше, чем это нам кажется. «Быть обманываемым в истории есть постоянный удел человека на земле. Можно сказать, надежды внушаемы человеку для того, чтобы, манясь ими, он совершал некоторые дела, которые необходимы — для приведения его в состояние, ничего общего с этими надеждами не имеющее, но очень гармоничное, ясно необходимое в общем строе всемирной истории». Единственное «место», в котором человек может проявить личное творчество, есть семья, рождение детей, — и Розанов, как мы уже видели, всячески стремится раскрыть священное значение семьи, рождения детей. Розанов постоянно утверждает мистическую глубину, присущую семье, ее сверхэмпирическую природу («семью нельзя рационально построить», «семья есть институт существенно иррациональный, мистический»).
Мы подходим к
Библиография
Болдырев Н. Ф. Семя Озириса или Василий Розанов как последний ветхозаветный пророк. Екатеринбург, 2001
Василий Розанов. Pro et contra: Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей/Сост. В. А. Фатеев: В 2 т. СПб., 1995
Гиппиус З. Н. Живые лица. Тбилиси, 1991
Голлербах Э. Л. В. В. Розанов: Жизнь и творчество. М., 1991
Ерофеев Вен. Василий Розанов глазами эксцентрика//Зеркала: Альманах. М., 1989
Курганов Е., Мондри Г. Розанов и евреи. СПб., 2000
Николюкин А. Н. Голгофа Василия Розанова. М., 1998
Синявский А. «Опавшие листья» Василия Васильевича Розанова. М., 1999
Сукач В. Г. Жизнь В. В. Розанова как она есть//Москва. 1990.
Фатеев В. А. С русской бездной в душе: Жизнеописание В. В. Розанова. СПб., 2002
Шкловский В. Б. Розанов. Пг., 1922
Тема № 312
Эфир 30.10.2003
Хронометраж 40:08